анна фридман / 01.03.2025 / 5 минут
Ловушка идентичности: как мы перестали говорить друг с другом?
В новой колонке Анна Фридман рассуждает, как мы докатились до жизни такой и перестали разговаривать друг с другом. Борьба идентичностей, нас с ними, их с нами – об этом и многом другом в новой конструктивистской зарисовке от Анны.
- Анна Фридманнезависимая исследовательница
Представьте себе человека, который родился в провинциальном российском городе и прожил всю жизнь в нем, работает он, например, менеджером среднего звена, звезд с неба не хватает, ведь лучше синица в руках, чем журавль в небе, по вечерам смотрит телевизор, в выходные – ездит на дачу. Как вы думаете, какие будут политические взгляды у такого человека?
Представьте себе другого человека – он родился в Москве, что называется, в интеллигентной семье, получил высшее образование по какой-нибудь заумной гуманитарной специальности в Вышке или пусть даже в МГУ, курирует выставки, по вечерам слушает подкасты, в выходные – пьет лавандовый раф в кофейне. Какие будут политические взгляды у такого человека?
Этими двумя примерами, абсолютно выдуманными и нарочно манипулятивными, я хочу показать наши стереотипы, из-за которых мы связываем бэкграунд человека и его образ жизни с теми или иными политическими взглядами, с той или иной идеологией. Вполне возможно, что первый может оказаться приверженцем либеральных взглядов, а второй – выступать за традиционные ценности, но когда мы определяем свое отношение к какому-то политическому мнению — мы воображаем некое сообщество людей, которое за этим мнением стоит. Мы попадаемся в ловушку политики идентичностей.
В действительности, если мы сопоставим идеологии XIX и XX века с нашим представлением об идеологиях сейчас, мы обнаружим существенные изменения. Если исторически идеология представляла собой некую систему представлений, идей, когниций, которые пытались объяснить, как устроена политическая реальность, и предлагали программу, как она должна быть перестроена, и вокруг этой системы формировались политические движения и партии, то теперь порой возникает чувство, что никакой идеологии нет и вовсе – есть лишь устойчивые способы интерпретации и воспроизведения информации, циркулирующие символы и нарративы, одни и те же источники и знаковые лица, ассоциирующиеся с теми или иными политическими воззрениями. Идеологии совершили качественный переход от проблемно-ориентированных (issue-based) к идеологиям идентичностей – наши политические взгляды детерминируются не столько нашим подходом к решению проблемы, сколько сообществом, к которому мы себя причисляем.
Представьте себе другого человека – он родился в Москве, что называется, в интеллигентной семье, получил высшее образование по какой-нибудь заумной гуманитарной специальности в Вышке или пусть даже в МГУ, курирует выставки, по вечерам слушает подкасты, в выходные – пьет лавандовый раф в кофейне. Какие будут политические взгляды у такого человека?
Этими двумя примерами, абсолютно выдуманными и нарочно манипулятивными, я хочу показать наши стереотипы, из-за которых мы связываем бэкграунд человека и его образ жизни с теми или иными политическими взглядами, с той или иной идеологией. Вполне возможно, что первый может оказаться приверженцем либеральных взглядов, а второй – выступать за традиционные ценности, но когда мы определяем свое отношение к какому-то политическому мнению — мы воображаем некое сообщество людей, которое за этим мнением стоит. Мы попадаемся в ловушку политики идентичностей.
В действительности, если мы сопоставим идеологии XIX и XX века с нашим представлением об идеологиях сейчас, мы обнаружим существенные изменения. Если исторически идеология представляла собой некую систему представлений, идей, когниций, которые пытались объяснить, как устроена политическая реальность, и предлагали программу, как она должна быть перестроена, и вокруг этой системы формировались политические движения и партии, то теперь порой возникает чувство, что никакой идеологии нет и вовсе – есть лишь устойчивые способы интерпретации и воспроизведения информации, циркулирующие символы и нарративы, одни и те же источники и знаковые лица, ассоциирующиеся с теми или иными политическими воззрениями. Идеологии совершили качественный переход от проблемно-ориентированных (issue-based) к идеологиям идентичностей – наши политические взгляды детерминируются не столько нашим подходом к решению проблемы, сколько сообществом, к которому мы себя причисляем.
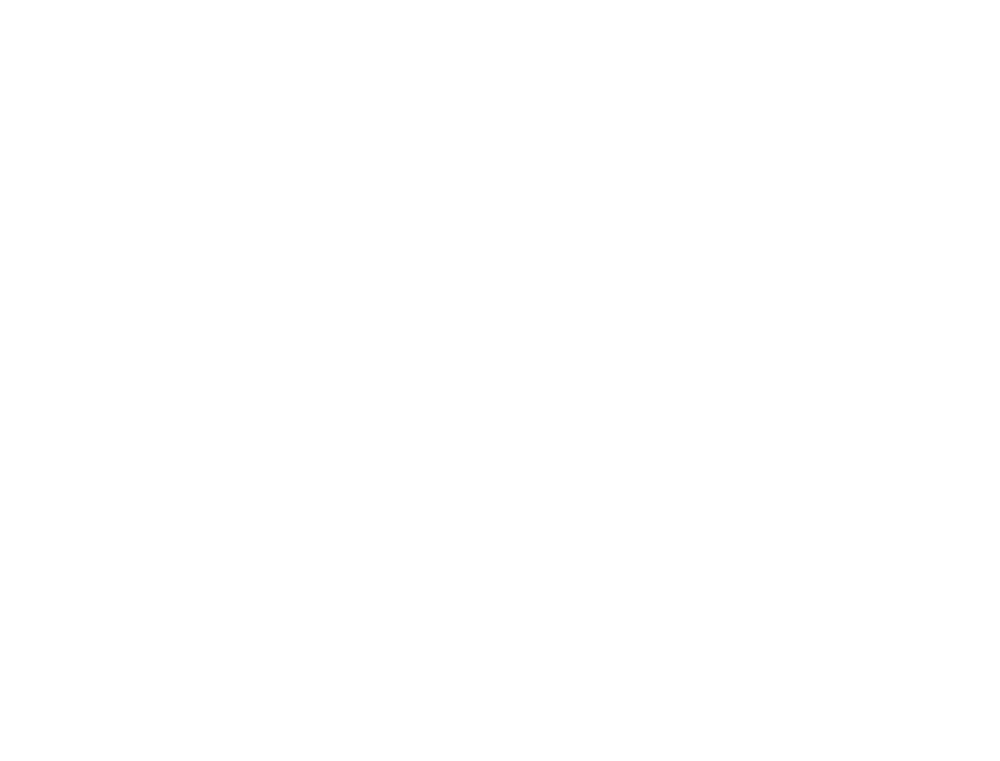
Имея корни в социальной и политической идентичности, современная идеология не обязательно несет за собой совокупность мнений по определенным проблемам и потому бывает причудливо ситуативна, когда нужно выработать коллективные реакции на очередное политическое событие. Если ранее мы могли провести границу между левыми и правыми по их отношению к вмешательству государства в экономику или к статусу-кво, то теперь мы обнаруживаем, что разломы между левыми и правыми настолько многочисленны и настолько зависят от политического контекста, что провести грань между ними становится не так уж просто. Примером этого могут послужить про-палестинские протесты в американских кампусах, на которые студенты выносили не только флаг Палестины, но и флаги Хезболлы и ХАМАС. И хотя палестинская проблема традиционно классифицируется как левая в силу риторики освобождения – даже в самом Израиле любой человек, выступающий за признание Палестины и мирное сосуществование двух государств, будет классифицирован как левый, едва ли поддержку организаций, основывающихся на исламском фундаментализме, или призывы выселить (или уничтожить) евреев “от реки до моря” можно расценивать как действия левой политики, хотя именно таковыми их и расценивают, несмотря на их откровенное сближение с ультра-правой риторикой. Аналогичные предложения Трампа выселить палестинцев из сектора Газа были расценены исключительно как правые и даже классифицированы левой общественностью как призывы к этническим чисткам.
Таким образом, когда речь заходит об идеологиях идентичности разграничение проходит не по устойчивой системе мировоззрений, но в аффективной привязке людей к определенным идеологическим маркерам – публичным фигурам, символам, лозунгам и т.д., по которым человек опознает своих, кого поддержать, а кого не поддерживать. Так символическая привязанность к какой-либо из групп оказывает влияние на политические предпочтения и политическое поведение.
Таким образом, когда речь заходит об идеологиях идентичности разграничение проходит не по устойчивой системе мировоззрений, но в аффективной привязке людей к определенным идеологическим маркерам – публичным фигурам, символам, лозунгам и т.д., по которым человек опознает своих, кого поддержать, а кого не поддерживать. Так символическая привязанность к какой-либо из групп оказывает влияние на политические предпочтения и политическое поведение.
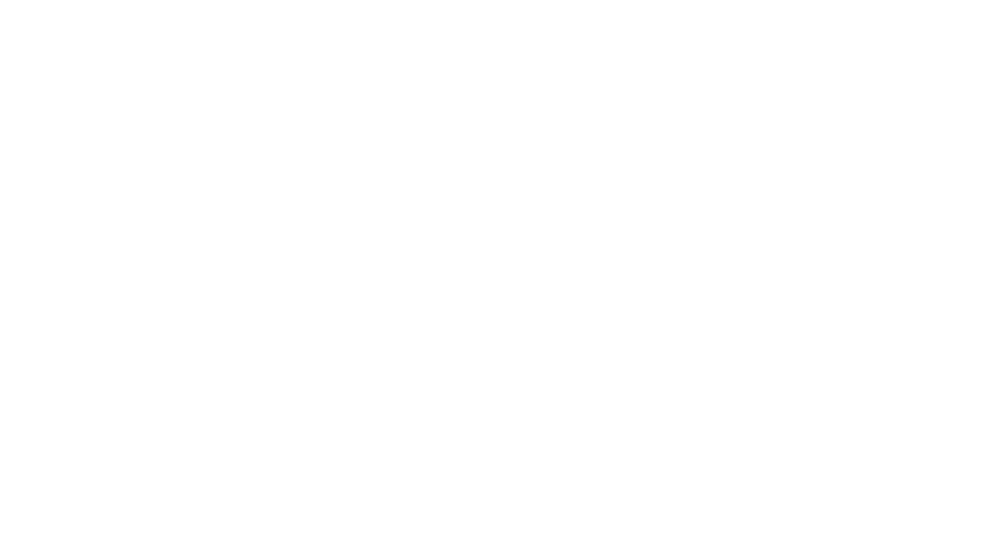
Конечно, концепция “Мы”-групп и “Они”-групп не нова в теории социальных конфликтов: люди испытывают большую лояльность к тем группам, к которым причисляют себя, в то время как с другими группами они будут чаще испытывать состояние конфликта. Однако, проблема идеологии идентичности заключается в том, что она усиливает разграничения между этими группами, подчеркивает отсутствие точек соприкосновения – вместо того, чтобы позволить идентичности быть флюидной и перестраивать саму себя под воздействием других идентичностей. В итоге, “Они”-группа становится не просто зоной потенциального недопонимания и конфликта, а той частью реальности, которую я предпочту совершенно избегать: ведь любое соприкосновение с Другим воспринимается как экзистенциально опасное для моей идентичности – она трансформируется в результате этого взаимодействия. И вместе с тем, Другой становится необходимой точкой опоры, от которой группа выстраивает собственную идентичность: идентичность группы не может существовать без Другого, будучи определенной через то, чем группа не является. Эта разница между группами, которая никогда не может быть описана исчерпывающим образом, заведомо антагонистична и создает неразрешимые противоречия, конфликты. И вместе с тем невозможность выделить абсолютно все различия между группами дает зазор для перестраивания групп, переформулирования их идентичностей согласно контексту.
Парадоксальным образом оказывается, что идентичности одновременно становятся и ригидными – в их неизменной твердой подвязке друг на друга и сопротивлении друг другу, и флюидными – пересобирающимися за счет подчеркивания разных отличительных черт в зависимости от контекста. Возможность перестройки идентичности – в их пустоте, в возможности наполнять их разным содержанием и по-разному воспринимать в зависимости от собственной идентичности – и оказывается идеологичной, поскольку идеология заполняет недостаточность идентичности фантазией о единстве групп и определенным образом установленной связи между двумя антагонистическими группами. Это, например, отображается в наших представлениях о политических взглядах различных поколений. Мы можем ожидать, что старшее поколение более консервативно и более склонно поддерживать традиционные ценности и текущий курс российской политики – и чем больше мы наблюдаем таких людей, тем больше убеждаемся в том, что это естественное свойство этой группы быть именно таких взглядов. В результате мы, если это противоречит нашим собственным взглядам, скорее будем избегать обсуждения политических тем, поскольку это будет восприниматься как неизменный порядок вещей, который и отличает Их от Нас.
Парадоксальным образом оказывается, что идентичности одновременно становятся и ригидными – в их неизменной твердой подвязке друг на друга и сопротивлении друг другу, и флюидными – пересобирающимися за счет подчеркивания разных отличительных черт в зависимости от контекста. Возможность перестройки идентичности – в их пустоте, в возможности наполнять их разным содержанием и по-разному воспринимать в зависимости от собственной идентичности – и оказывается идеологичной, поскольку идеология заполняет недостаточность идентичности фантазией о единстве групп и определенным образом установленной связи между двумя антагонистическими группами. Это, например, отображается в наших представлениях о политических взглядах различных поколений. Мы можем ожидать, что старшее поколение более консервативно и более склонно поддерживать традиционные ценности и текущий курс российской политики – и чем больше мы наблюдаем таких людей, тем больше убеждаемся в том, что это естественное свойство этой группы быть именно таких взглядов. В результате мы, если это противоречит нашим собственным взглядам, скорее будем избегать обсуждения политических тем, поскольку это будет восприниматься как неизменный порядок вещей, который и отличает Их от Нас.

Таким образом, в “Мы”-группе, равно как и в “Они” стираются индивидуальные черты и воззрения. Классифицируя человека как принадлежащего к той или иной группе, мы прибегаем к обобщению, додумывая его взгляды, мировоззрение и черты. В результате такого обобщения разница между людьми из двух разных групп подчеркивается, а разница между людьми из одной группы – игнорируется. Это становится тем более проблематично, учитывая то, что ради принятия той или иной группой люди могут прибегать к самоцензуре, политически корректным выражениям, согласно нормам этой группы, утаивая свои взгляды или делая их более адаптированными под ту группу, с которой они себя идентифицируют. Более того, у людей обрывается возможность общения с людьми противоположной группы, ведь полагается, что их парадигма взглядов фундаментально несовместима с нашей и, кроме того, не поддается никаким изменениям, потому возникает представление, будто диалог и невозможен, и ненужен. Это идет вполне в русле древнего тезиса “разделяй и властвуй”: общество поляризовано и атомизировано; группы разных идентичностей не вступают в диалог друг с другом, уверенные, что другие их не поймут, потому что они другие; умеренные суждения, не привязанные к какой-либо группе, осуждаются; плюрализм мнений все больше уходит в диктатуру идентичностей; а диалог обрывается, подменяется перекидыванием нарративами и символами или не начинается вовсе. Все это усугубляется соцсетями, чьи алгоритмы подкидывают нам информацию, которую мы желаем видеть и которая соответствует нашим взглядом, и чьи форматы подразумевают короткие и упрощенные по содержанию видео и тексты.
Мы оказываемся в ловушке идентичности: разница во взглядах подкрепляет нашу лояльность к собственной идентичности и нежелание соприкасаться с чужой идентичностью, что в свою очередь еще сильнее увеличивает разницу между нами и невозможность не просто договориться – а даже встретиться в информационном пространстве.
В книге “Ловушка идентичности” Яша Мунк, доцент кафедры практики международных отношений в университете Джона Хопкинса, отмечает, что идеология идентичности упускает из виду классовые проблемы и от конкретных, определенных понятий и концепций, предлагаемыми классическими идеологиями вроде либерализма, социализма, консерватизма, переходит к общим, обширным, пустым терминам – вроде “woke”, “social justice” или “oppression”, которые действуют из сугубо бинарной логики: весь мир делится на угнетателей и угнетенных, причиняющих социальную несправедливость и восстанавливающих социальную справедливость. Такая бинарная эпистемологическая модель не только категоризирует людей на “хороших” и “плохих” и игнорирует более сложные социальные связи, но также и не предлагает решений – предлагаемая идеология не называет своего имени, своего -изма, не дает плана действий, втягивая людей разных групп, каждая из которых по-своему определяет, что такое хорошо и что такое плохо, в бесконечную борьбу.
Мы оказываемся в ловушке идентичности: разница во взглядах подкрепляет нашу лояльность к собственной идентичности и нежелание соприкасаться с чужой идентичностью, что в свою очередь еще сильнее увеличивает разницу между нами и невозможность не просто договориться – а даже встретиться в информационном пространстве.
В книге “Ловушка идентичности” Яша Мунк, доцент кафедры практики международных отношений в университете Джона Хопкинса, отмечает, что идеология идентичности упускает из виду классовые проблемы и от конкретных, определенных понятий и концепций, предлагаемыми классическими идеологиями вроде либерализма, социализма, консерватизма, переходит к общим, обширным, пустым терминам – вроде “woke”, “social justice” или “oppression”, которые действуют из сугубо бинарной логики: весь мир делится на угнетателей и угнетенных, причиняющих социальную несправедливость и восстанавливающих социальную справедливость. Такая бинарная эпистемологическая модель не только категоризирует людей на “хороших” и “плохих” и игнорирует более сложные социальные связи, но также и не предлагает решений – предлагаемая идеология не называет своего имени, своего -изма, не дает плана действий, втягивая людей разных групп, каждая из которых по-своему определяет, что такое хорошо и что такое плохо, в бесконечную борьбу.
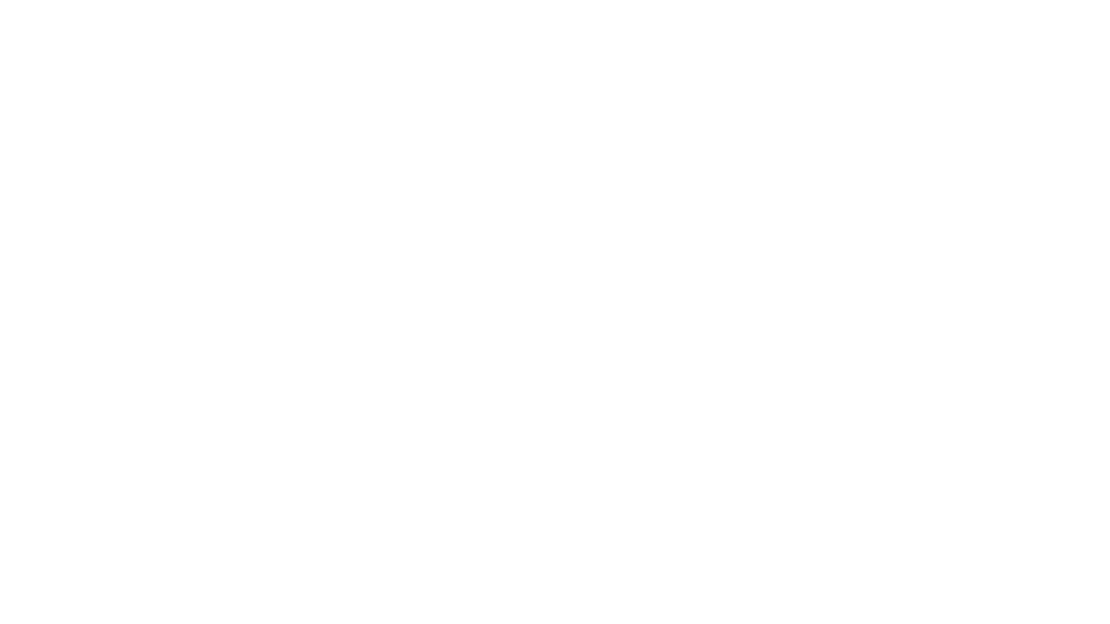
Универсальные нормы, как утверждает Мунк, отвергаются в пользу “прогрессивного сепаратизма”, поскольку люди не просто действуют и думают в соответствии с тем, что им диктует их идентичность, но от людей ожидается то, что они будут действовать в соответствии со своей идентичностью и видеть себя через ее призму. В противном случае они рискуют столкнуться с репрессивными механизмами сообществ.
Ловушка идентичности – один из симптомов общества пост-правды. Неважно, что говорят научные или исторические факты, ведь интерпретировать их можно с позиций собственной идентичности. Мир, в котором невозможно опереться на эмпирику, становится благодатным полем деятельности различных демагогов, способных привлекать к себе аудиторию, но не вступать с ней в диалог или взаимодействовать друг с другом. Это приводит к деполитизации политики, предполагающей в своей живой сущности контестацию, диалог различных интересов, который не происходит, поскольку идеология идентичности не просто скрывает или искажает правду, сколько изобретает ее, создает режим правды. Избегая диалога друг с другом на болезненные и сложные темы, мы рискуем оказаться в закрытом, непроницаемом мире, живущем по законам, созданными нашей идентичностью, в ощущении своей полной правоты.
Ловушка идентичности – один из симптомов общества пост-правды. Неважно, что говорят научные или исторические факты, ведь интерпретировать их можно с позиций собственной идентичности. Мир, в котором невозможно опереться на эмпирику, становится благодатным полем деятельности различных демагогов, способных привлекать к себе аудиторию, но не вступать с ней в диалог или взаимодействовать друг с другом. Это приводит к деполитизации политики, предполагающей в своей живой сущности контестацию, диалог различных интересов, который не происходит, поскольку идеология идентичности не просто скрывает или искажает правду, сколько изобретает ее, создает режим правды. Избегая диалога друг с другом на болезненные и сложные темы, мы рискуем оказаться в закрытом, непроницаемом мире, живущем по законам, созданными нашей идентичностью, в ощущении своей полной правоты.
Вам понравилась эта статья?
Читайте также:

