four interview / 01.03.2025 / 5 минут
Ой, а у нас почему-то теплый январь
Екатерина Орлова, колумнист FOUR, открывает серию разговоров о главных вызовах, которые определяют будущее — нашем ли веке или веке тех, кто придёт следом. Первым делом — климат: почему все говорят о катастрофе, но действуют как будто её не будет, как устроена экономика, когда воздух, вода и леса становятся ресурсом, и что ждёт нас, если ничего не менять. Об этом — с Елизаветой Смоловик, научным сотрудником Лаборатории экономики изменения климата ВШЭ.
- Елизавета Смоловикнаучный сотрудник Лаборатории экономики изменения климата НИУ ВШЭ
- Екатерина ОрловаКолумнист FOUR, соавтор подкста "А что, так можно было?"
Изменение климата – не та тема, которая стоит на повестке дня в России в отличие от ядерного вооружения или поворота на Восток. Многие и вовсе не верят в то, что изменение климата, глобальное потепление и экологические проблемы существуют. Почему вы, как молодой ученый в России, решили стать специалистом в этой не самой популярной и противоречивой сфере?
Я не могу сказать, что начала изучать изменение климата, когда это не было популярно. Когда я училась на втором курсе бакалавриата, в 2019-2020 годах, эта тема была, напротив, горячо обсуждаемой: из-за разработки СВАМ (пограничный корректирующий углеродный механизм в ЕС – прим. ред.) шли разговоры о росте цен на российский экспорт.
Что касается скепсиса, в России это затрагивает, по моим ощущениям, представителей старшего поколения, людей советского воспитания. Они склонны верить, что изменение климата придумали в США или Европе, чтобы обкладывать налогами российскую продукцию.
Сложно сказать, что климатические скептики больше находятся среди людей, родившихся в Советском Союзе. Молодые люди в России часто говорят о том, что изменение климата – повестка, продвигаемая политиками для отвлечения внимания населения от реальных проблем вроде инфляции или безработицы. Как можно доказать климатическому скептику, что изменение климата – это настоящая проблема, а не часть природного цикла, извращенная политиками?
Я бы не спорила с этим человеком, потому что он совсем ничего не понимает. А если серьезно, то нельзя отрицать циклические причины изменения климата: история помнит ледниковый период и времена аномальной жары. Это имеет место быть и сейчас, просто такие периоды происходят не раз в десять, а раз в сто или тысячу лет. А как доказать? Посмотреть на динамику выбросов, уровень социально-экономического развития и темпы прироста температуры. Научно доказано, что между показателями существует прямая связь. Говорить, что в изменении климата нет вины человека, мы не можем. Это наглядно показывают отчеты МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата – прим. ред.) и Greenpeace*.
Я не могу сказать, что начала изучать изменение климата, когда это не было популярно. Когда я училась на втором курсе бакалавриата, в 2019-2020 годах, эта тема была, напротив, горячо обсуждаемой: из-за разработки СВАМ (пограничный корректирующий углеродный механизм в ЕС – прим. ред.) шли разговоры о росте цен на российский экспорт.
Что касается скепсиса, в России это затрагивает, по моим ощущениям, представителей старшего поколения, людей советского воспитания. Они склонны верить, что изменение климата придумали в США или Европе, чтобы обкладывать налогами российскую продукцию.
Сложно сказать, что климатические скептики больше находятся среди людей, родившихся в Советском Союзе. Молодые люди в России часто говорят о том, что изменение климата – повестка, продвигаемая политиками для отвлечения внимания населения от реальных проблем вроде инфляции или безработицы. Как можно доказать климатическому скептику, что изменение климата – это настоящая проблема, а не часть природного цикла, извращенная политиками?
Я бы не спорила с этим человеком, потому что он совсем ничего не понимает. А если серьезно, то нельзя отрицать циклические причины изменения климата: история помнит ледниковый период и времена аномальной жары. Это имеет место быть и сейчас, просто такие периоды происходят не раз в десять, а раз в сто или тысячу лет. А как доказать? Посмотреть на динамику выбросов, уровень социально-экономического развития и темпы прироста температуры. Научно доказано, что между показателями существует прямая связь. Говорить, что в изменении климата нет вины человека, мы не можем. Это наглядно показывают отчеты МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата – прим. ред.) и Greenpeace*.
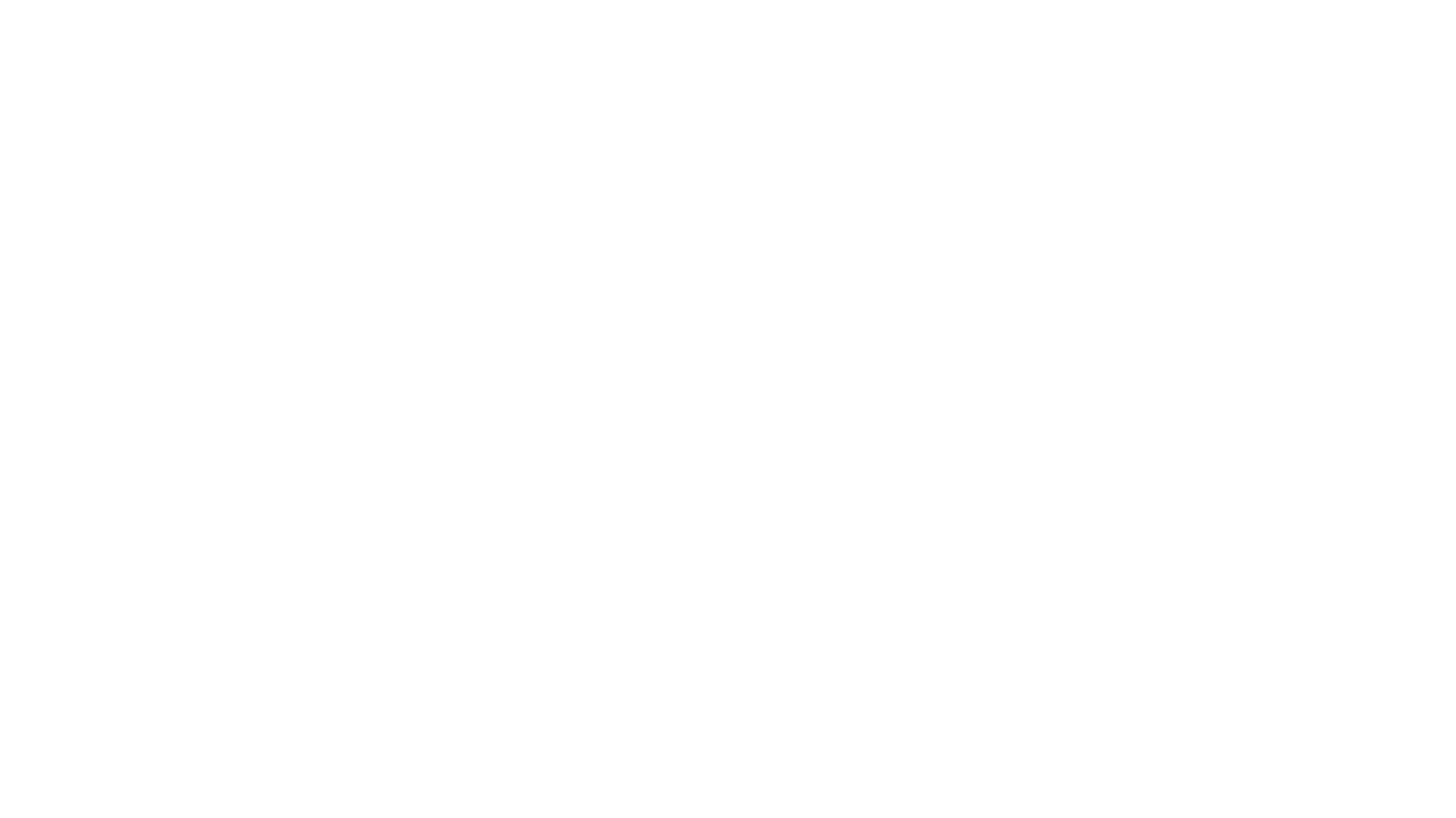
Эволюция средней глобальной температуры в 1850-2024 гг.
Но если взглянуть на графики МГЭИК, можно заметить, что изменения климата начались раньше, чем о них начали говорить в медиапространстве в 2010-е годы. Скептики могут легко наложить это на геополитические события конца 2010-х годов.
Экологическое движение получило развитие вовсе не в 2010-х годах, хотя с широким освещением в медиа это стало более заметным: по телевизору начали показывать протесты, в соцсетях стали появляться зеленые хэштеги и плакаты. Но экологические движения – именно экологические, ведь климатические изменения являются частью экологических проблем – начались в конце XX века, примерно тогда же были приняты основные соглашения в области изменения климата. Сначала это касалось не столько климата в целом, сколько сохранения озонового слоя – это закрепил Монреальский протокол 1987 года, а только потом появились Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года и Киотский протокол 1997 года. Роль Интернета в увеличении внимания к экологической повестке есть, но говорить о климате начали раньше, чем в 2010-е годы.
Экологическое движение получило развитие вовсе не в 2010-х годах, хотя с широким освещением в медиа это стало более заметным: по телевизору начали показывать протесты, в соцсетях стали появляться зеленые хэштеги и плакаты. Но экологические движения – именно экологические, ведь климатические изменения являются частью экологических проблем – начались в конце XX века, примерно тогда же были приняты основные соглашения в области изменения климата. Сначала это касалось не столько климата в целом, сколько сохранения озонового слоя – это закрепил Монреальский протокол 1987 года, а только потом появились Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года и Киотский протокол 1997 года. Роль Интернета в увеличении внимания к экологической повестке есть, но говорить о климате начали раньше, чем в 2010-е годы.
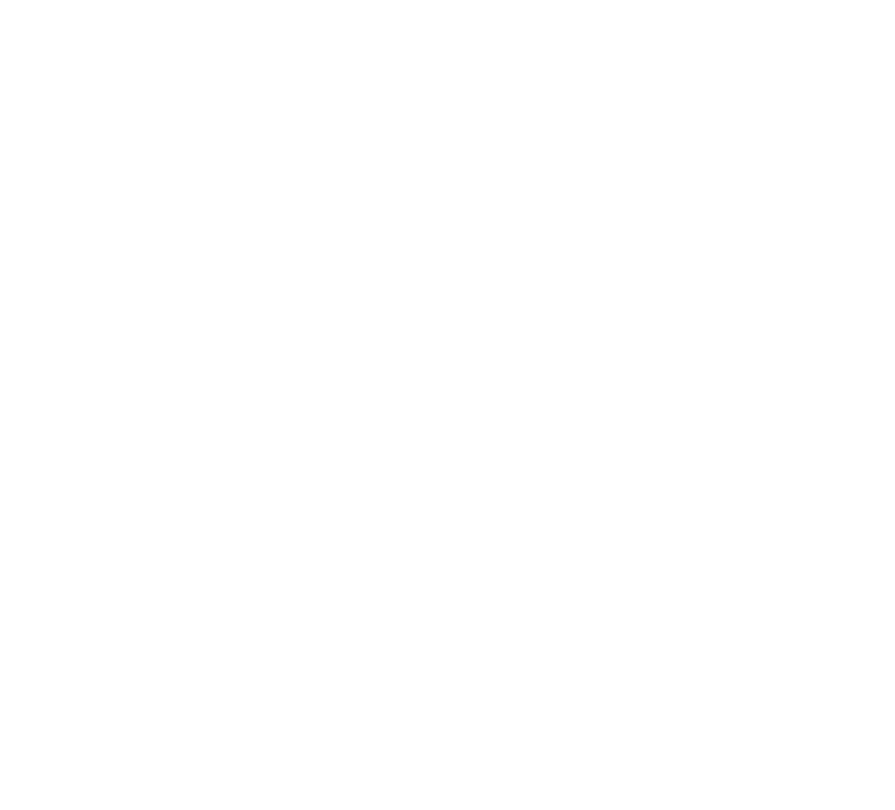
Рост температуры на 1.1°С – аномалия в масштабе тысячелетий
В начале 2025 года стал популярен No Buy тренд, когда люди выбирают осознанное потребление. Зачем отдельному человеку экономить воду, отказываться в пластика, следовать тренду на отказ от чрезмерного потребления, если от этого не изменится ничего? Если взглянуть на цифры, станет очевидно, что загрязнения почвы, атмосферы и воды, чрезмерный вылов рыбы и многие другие экологические проблемы вызваны деятельностью корпораций, а не отдельных людей.
Это дискуссионный вопрос, но я верю, что все начинается с малых дел каждого человека. “Если я не выключу воду, пока чищу зубы, ничего страшного не будет”, – но так только кажется. Да, в России много воды, и если вы один раз не выключите воду, вы не ощутите проблемы. Если бы у нас было меньше запасов воды, как в Великобритании или Центральной Азии, мы бы почувствовали нехватку на себе.
Вопрос вклада корпораций тоже спорный, ведь когда компании продвигают продукцию, произведенную устойчивыми способами, это действительно ощущается как способ компаний больше заработать…
Гринвошинг?
Да, гринвошинг! Такая продукция зачастую дороже, чем обычная. Зубной щеткой из экомагазина вы будете пользоваться ровно столько же времени, сколько и щеткой из обычного, но заплатите больше – ведь это “устойчиво” и это как бы “замечательно”. А компания получит еще больше денег за то, что она продала такой устойчивый продукт – будь то щетка, зубная паста или стиральный порошок. Потреблять меньше, сдавать вещи в переработку – это хорошо, но в устойчивые бренды я не верю.
Но ведь устойчивые бренды оправдывают высокие цены высокими затратами, которые нужны для производства условной щетки, которая впоследствии будет утилизирована более экологически чистым способом.
Да, это так, но тут вопрос – а как вы будете такую продукцию утилизировать? Вы можете купить устойчивый продукт и прочитать инструкцию по утилизации – но если в вашем городе нет пункта раздельного сбора мусора, вы просто выбросите ее так же, как и обычную щетку. Вряд ли от этого будет вклад в устойчивое развитие. А вот устойчивое потребление – хорошая вещь. Правильный выход – это меньше покупать. Не покупать одежду просто потому, что она продается по скидке, сдавать старые вещи друзьям или нуждающимся. Если это можно назвать экологической привычкой, то она у меня есть.
Это дискуссионный вопрос, но я верю, что все начинается с малых дел каждого человека. “Если я не выключу воду, пока чищу зубы, ничего страшного не будет”, – но так только кажется. Да, в России много воды, и если вы один раз не выключите воду, вы не ощутите проблемы. Если бы у нас было меньше запасов воды, как в Великобритании или Центральной Азии, мы бы почувствовали нехватку на себе.
Вопрос вклада корпораций тоже спорный, ведь когда компании продвигают продукцию, произведенную устойчивыми способами, это действительно ощущается как способ компаний больше заработать…
Гринвошинг?
Да, гринвошинг! Такая продукция зачастую дороже, чем обычная. Зубной щеткой из экомагазина вы будете пользоваться ровно столько же времени, сколько и щеткой из обычного, но заплатите больше – ведь это “устойчиво” и это как бы “замечательно”. А компания получит еще больше денег за то, что она продала такой устойчивый продукт – будь то щетка, зубная паста или стиральный порошок. Потреблять меньше, сдавать вещи в переработку – это хорошо, но в устойчивые бренды я не верю.
Но ведь устойчивые бренды оправдывают высокие цены высокими затратами, которые нужны для производства условной щетки, которая впоследствии будет утилизирована более экологически чистым способом.
Да, это так, но тут вопрос – а как вы будете такую продукцию утилизировать? Вы можете купить устойчивый продукт и прочитать инструкцию по утилизации – но если в вашем городе нет пункта раздельного сбора мусора, вы просто выбросите ее так же, как и обычную щетку. Вряд ли от этого будет вклад в устойчивое развитие. А вот устойчивое потребление – хорошая вещь. Правильный выход – это меньше покупать. Не покупать одежду просто потому, что она продается по скидке, сдавать старые вещи друзьям или нуждающимся. Если это можно назвать экологической привычкой, то она у меня есть.
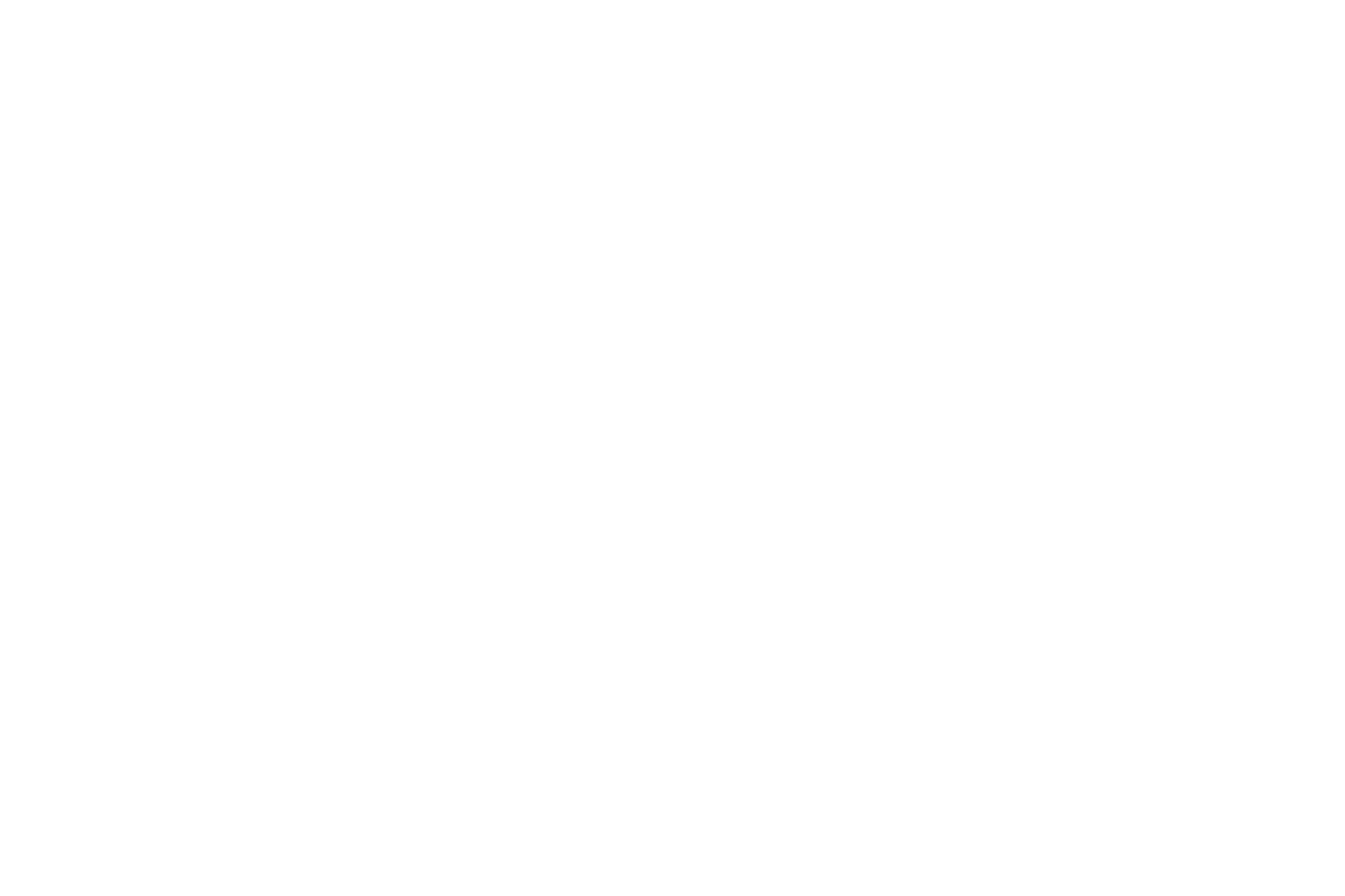
Один из устойчивых брендов
А как именно эта привычка помогает?
Так спрос на вещи будет меньше. Вы купили вещь, она вам разонравилась – перепродайте или отдайте ее. Тогда другой человек не пойдет в магазин покупать новую, и за спросом, согласно экономической теории, будет снижаться предложение, ведь компании ориентируются на спрос.
Возвращаясь к теме воды – вы отметили, что в России ее достаточно и от одного незакрытого крана ничего не изменится. Так зачем тогда россиянам закрывать краны, отдавать одежду в переработку – пусть этим занимаются те страны, у которых экологические проблемы есть.
Нельзя сказать, что с окружающей средой в России все всегда будет относительно хорошо. Рассуждая о концепции устойчивого развития, мы должны думать о будущих поколениях. Через пятнадцать лет у нас вряд ли закончится вода, но если мы будем без разбора тратить ее сейчас или загрязнять, то мир устойчивым мы не сделаем. Понятно, что думать о будущем поколении – умозрительная вещь: почему человек должен думать о ком-то, кого он не знает и кто еще не родился? Но если мы хотим сохранить природу, мы должны мыслить стратегией малых дел, которые каждый из нас способен сделать,
Видимо, отложенный эффект этих действий и заставляет многих не верить в изменение климата.
Конечно. Во время индустриализации XIX-XX веков никто и не видел, что климат меняется. Эффект стал заметен через 150 лет: “Ой, а у нас почему-то теплый январь”. Та же история и с сокращением выбросов: если вы сократите их сегодня, не факт, что окружающая среда восстановится завтра, – это долгосрочный процесс. Эффект невидим, и поэтому люди и не верят в важность экологических привычек.
Так спрос на вещи будет меньше. Вы купили вещь, она вам разонравилась – перепродайте или отдайте ее. Тогда другой человек не пойдет в магазин покупать новую, и за спросом, согласно экономической теории, будет снижаться предложение, ведь компании ориентируются на спрос.
Возвращаясь к теме воды – вы отметили, что в России ее достаточно и от одного незакрытого крана ничего не изменится. Так зачем тогда россиянам закрывать краны, отдавать одежду в переработку – пусть этим занимаются те страны, у которых экологические проблемы есть.
Нельзя сказать, что с окружающей средой в России все всегда будет относительно хорошо. Рассуждая о концепции устойчивого развития, мы должны думать о будущих поколениях. Через пятнадцать лет у нас вряд ли закончится вода, но если мы будем без разбора тратить ее сейчас или загрязнять, то мир устойчивым мы не сделаем. Понятно, что думать о будущем поколении – умозрительная вещь: почему человек должен думать о ком-то, кого он не знает и кто еще не родился? Но если мы хотим сохранить природу, мы должны мыслить стратегией малых дел, которые каждый из нас способен сделать,
Видимо, отложенный эффект этих действий и заставляет многих не верить в изменение климата.
Конечно. Во время индустриализации XIX-XX веков никто и не видел, что климат меняется. Эффект стал заметен через 150 лет: “Ой, а у нас почему-то теплый январь”. Та же история и с сокращением выбросов: если вы сократите их сегодня, не факт, что окружающая среда восстановится завтра, – это долгосрочный процесс. Эффект невидим, и поэтому люди и не верят в важность экологических привычек.
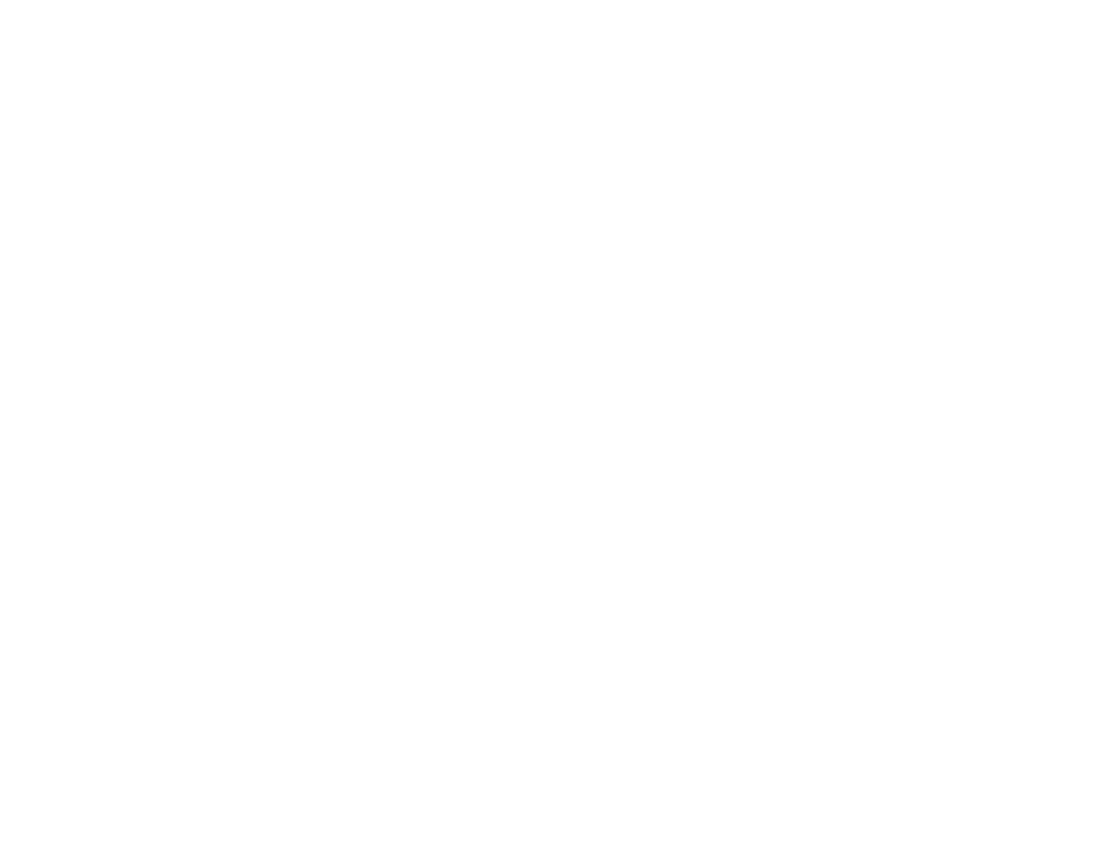
Влияние человека на изменение климата налицо
К слову об экологических привычках, мы уже обсудили одну – утилизацию вещей. Какие еще есть привычки, которые каждый из нас может внедрить в свою рутину?
Базово и тривиально, но сортировка мусора. Сложно заставить себя сортировать мусор, ведь в России это почти не развито и не продвигается. В Вышке стоят пункты раздельного сбора мусора – и это хорошо. Но ставить раздельные пакеты дома, мыть и сушить пластмассовые бутылки, искать пункты приема мусора – это сложно, хотя привычка хорошая. Скажу честно, у меня ее нет – я не представляю, куда это все сдавать.
У нас действительно плохая инфраструктура для этой привычки.
Да, мне так удается утилизировать только батарейки – в подъезде моего дома для них стоит специальный контейнер. Во Вкусвилле можно сдавать крышки от бутылок, в других крупных магазинах есть даже пункты приема самих бутылок, за утилизацию которых вам начисляют бонусные баллы. Еще отмечу использование энергосберегающих лампочек – это не очень дорого и повсеместно распространено. Также можно выключать верхний свет.
Можно вспомнить сервисы доставки еды – сейчас они предлагают регулировать количество используемых пакетов или совсем от них отказаться.
А вместе с этим вспомним и макулатуру, что особенно актуально для школ и вузов.
А как можно заставить компании вести деятельность более экологически чистым способом?
С одной стороны, есть рыночное регулирование – за понижением спроса на углеродоемкую продукцию должно следовать снижение предложения. С другой стороны, необходимо вмешательство государства, потому что только оно способно повысить налоги на грязную продукцию или заставить инвестировать в чистые инициативы. Есть частные углеродные рынки – это взаимосвязь между частным бизнесом и государством: государство ставит потолок на выбросы…
Система cap-and-trade?
Да, бизнес должен осуществлять выбросы в пределах потолка. Если выбросов слишком много – вы можете купить дополнительные разрешения у тех компаний, которые не достигли пика своей квоты. А есть также добровольный углеродный рынок, где можно “закрыть” выбросы реализацией зеленых проектов, типа высаживания деревьев.
Базово и тривиально, но сортировка мусора. Сложно заставить себя сортировать мусор, ведь в России это почти не развито и не продвигается. В Вышке стоят пункты раздельного сбора мусора – и это хорошо. Но ставить раздельные пакеты дома, мыть и сушить пластмассовые бутылки, искать пункты приема мусора – это сложно, хотя привычка хорошая. Скажу честно, у меня ее нет – я не представляю, куда это все сдавать.
У нас действительно плохая инфраструктура для этой привычки.
Да, мне так удается утилизировать только батарейки – в подъезде моего дома для них стоит специальный контейнер. Во Вкусвилле можно сдавать крышки от бутылок, в других крупных магазинах есть даже пункты приема самих бутылок, за утилизацию которых вам начисляют бонусные баллы. Еще отмечу использование энергосберегающих лампочек – это не очень дорого и повсеместно распространено. Также можно выключать верхний свет.
Можно вспомнить сервисы доставки еды – сейчас они предлагают регулировать количество используемых пакетов или совсем от них отказаться.
А вместе с этим вспомним и макулатуру, что особенно актуально для школ и вузов.
А как можно заставить компании вести деятельность более экологически чистым способом?
С одной стороны, есть рыночное регулирование – за понижением спроса на углеродоемкую продукцию должно следовать снижение предложения. С другой стороны, необходимо вмешательство государства, потому что только оно способно повысить налоги на грязную продукцию или заставить инвестировать в чистые инициативы. Есть частные углеродные рынки – это взаимосвязь между частным бизнесом и государством: государство ставит потолок на выбросы…
Система cap-and-trade?
Да, бизнес должен осуществлять выбросы в пределах потолка. Если выбросов слишком много – вы можете купить дополнительные разрешения у тех компаний, которые не достигли пика своей квоты. А есть также добровольный углеродный рынок, где можно “закрыть” выбросы реализацией зеленых проектов, типа высаживания деревьев.
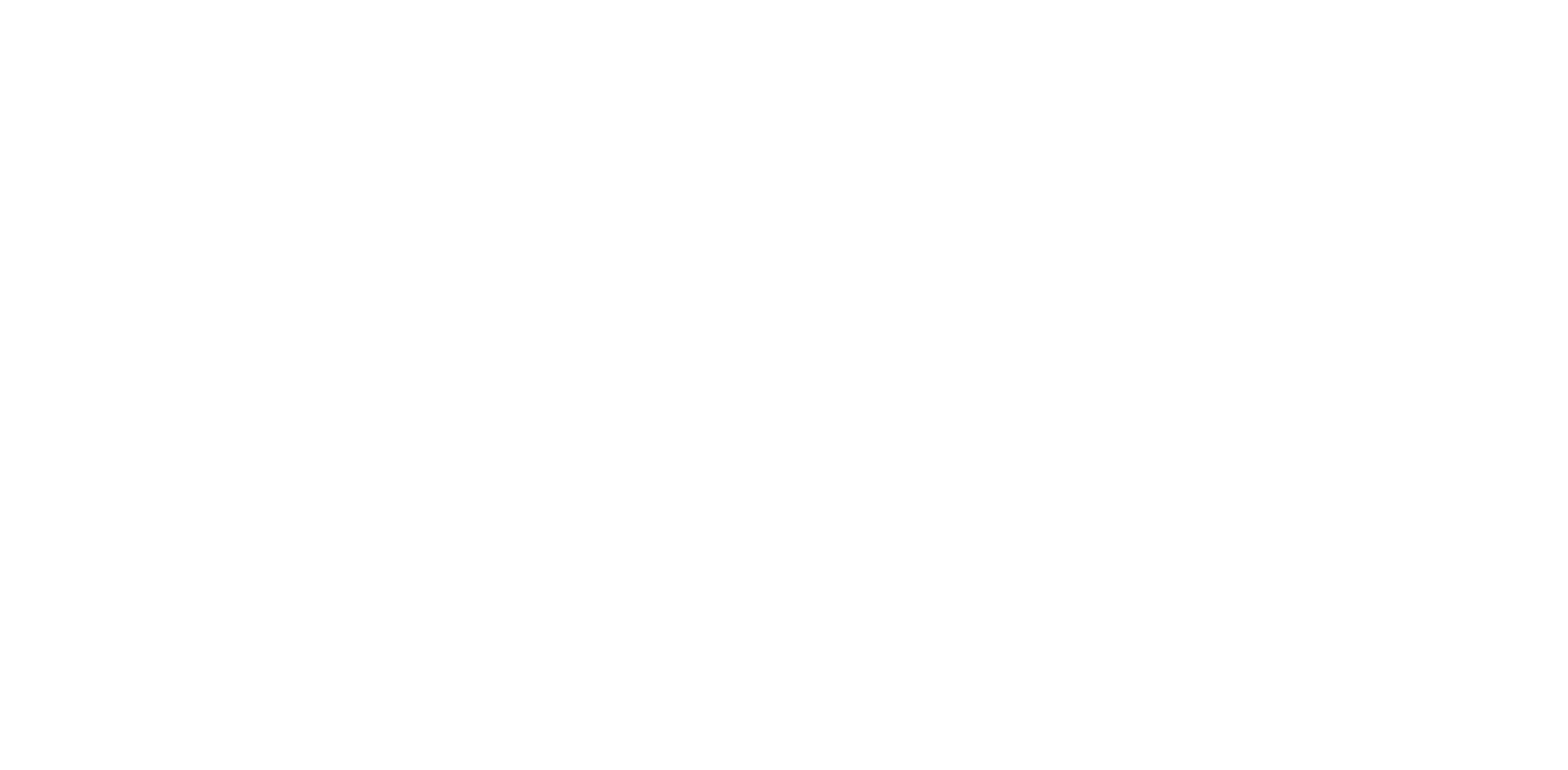
Страны, которые уже ввели системы ценообразования на углерод, 2023 г.
Новостные издания последние годы все чаще подчеркивают, что удержание глобального потепления ни на уровне 1,5°, ни на уровне 2° градусов (что закреплено Парижским соглашением 2015 года) недостижимо. Если бы вам предложили участвовать в составлении нового климатического универсального договора, что бы вы предложили?
Мне нравится концепция Парижского соглашения: страны, в отличие от Киотского протокола, могут сами решать, какими способами сокращать выбросы. Но с другой стороны, сложно выработать баланс между тем, что государства могут делать и что они готовы делать.
Одна из самых обсуждаемых тем сейчас – справедливое распределение климатической ответственности, когда развитые страны должны “платить” развивающимся за сокращение углеродного следа ввиду их большей исторической ответственности за выбросы. Именно в развивающихся странах сейчас сосредоточен основной прирост выбросов – в Китае, в Индии, в Нигерии. В развитых экономиках выбросов меньше, поскольку там высокую роль играет третичный сектор.
Что касается количественной цели по сокращению выбросов и сдерживанию прироста температуры, нужно ставить максимально достижимую цель: про 1,5° пора забыть, но после 4° запустятся механизмы обратной связи в природе, и остановить таяние ледников будет уже невозможно. Я бы остановилась на 2-2,5°.
Кстати, сейчас популярно исследование регулирования изменения климата не со стороны предложения, а со стороны спроса. Например, в Индии развиваются инициативы по регулированию потребления и стимуляции потребления устойчивой продукции – LiFE Mission. Я бы включила похожие инструменты, но все равно учитывала специфику отдельных стран, ведь универсального инструмента, который подошел бы ко всем, просто не существует.
А что бы вы включили в российскую экологическую повестку?
В России, в целом, в этой сфере все не так плохо: например, сейчас вводится обязательная углеродная отчетность для компаний, выбросы которых превышают 150 тыс. т углекислого газа в год. Также на Сахалине запустили экспериментальный углеродный рынок: да, он не идеален, там нет реальной цены на углерод, а есть лишь небольшой штраф за дополнительные выбросы. Вероятно, России не подошла бы система cap-and-trade в чистом виде так, как подошел бы учет цены на выбросы в углеродном налоге.
В России также важно активно говорить об адаптации, ведь эта проблема актуальна не менее, чем проблема выбросов.
Мне нравится концепция Парижского соглашения: страны, в отличие от Киотского протокола, могут сами решать, какими способами сокращать выбросы. Но с другой стороны, сложно выработать баланс между тем, что государства могут делать и что они готовы делать.
Одна из самых обсуждаемых тем сейчас – справедливое распределение климатической ответственности, когда развитые страны должны “платить” развивающимся за сокращение углеродного следа ввиду их большей исторической ответственности за выбросы. Именно в развивающихся странах сейчас сосредоточен основной прирост выбросов – в Китае, в Индии, в Нигерии. В развитых экономиках выбросов меньше, поскольку там высокую роль играет третичный сектор.
Что касается количественной цели по сокращению выбросов и сдерживанию прироста температуры, нужно ставить максимально достижимую цель: про 1,5° пора забыть, но после 4° запустятся механизмы обратной связи в природе, и остановить таяние ледников будет уже невозможно. Я бы остановилась на 2-2,5°.
Кстати, сейчас популярно исследование регулирования изменения климата не со стороны предложения, а со стороны спроса. Например, в Индии развиваются инициативы по регулированию потребления и стимуляции потребления устойчивой продукции – LiFE Mission. Я бы включила похожие инструменты, но все равно учитывала специфику отдельных стран, ведь универсального инструмента, который подошел бы ко всем, просто не существует.
А что бы вы включили в российскую экологическую повестку?
В России, в целом, в этой сфере все не так плохо: например, сейчас вводится обязательная углеродная отчетность для компаний, выбросы которых превышают 150 тыс. т углекислого газа в год. Также на Сахалине запустили экспериментальный углеродный рынок: да, он не идеален, там нет реальной цены на углерод, а есть лишь небольшой штраф за дополнительные выбросы. Вероятно, России не подошла бы система cap-and-trade в чистом виде так, как подошел бы учет цены на выбросы в углеродном налоге.
В России также важно активно говорить об адаптации, ведь эта проблема актуальна не менее, чем проблема выбросов.
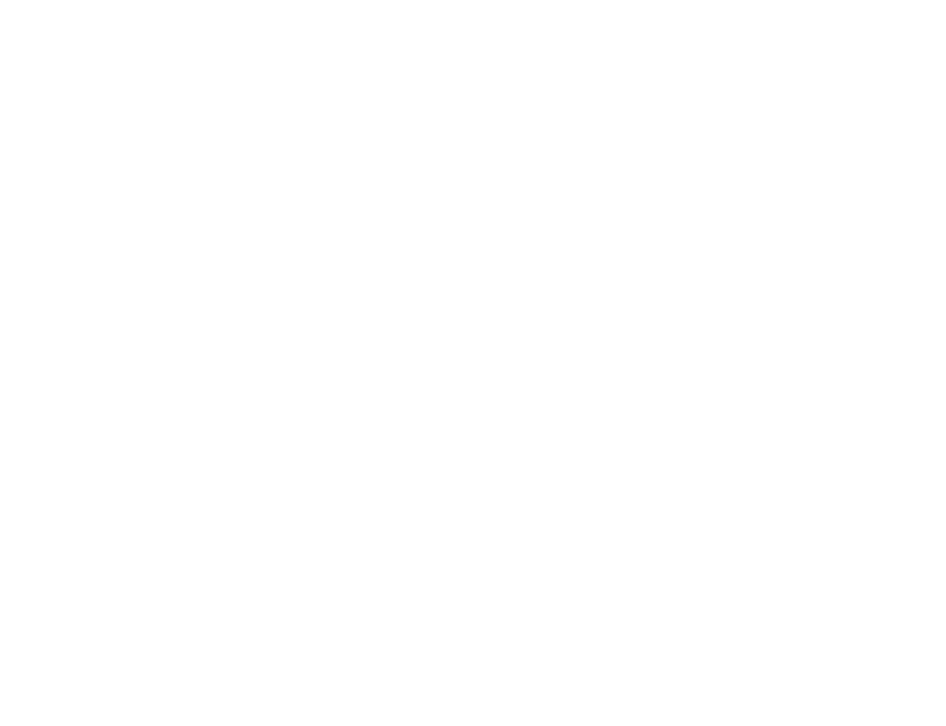
Мониторинг таяния вечной мерзлоты в России – важная задача
А что такое адаптация?
Адаптация к изменению климата — это процесс приспособления природных и человеческих систем к текущим или ожидаемым климатическим изменениям, включая повышение средних температур, изменение режима осадков, рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений.
Основная цель адаптации — минимизировать негативные последствия изменения климата и использовать возможные преимущества.
Что в России делается для успешной адаптации?
В России большой набор климатических рисков: на севере таяние вечной мерзлоты, в Приморье – осадки, в Краснодарском крае – экстремальные засухи. Сейчас у нас разрабатываются планы по адаптации – я бы однозначно оставила эту инициативу.
Также важный вопрос – переходные риски (риски, связанные с увеличением углеродного регулирования и барьеров в мире — прим. ред.), и в России этому не уделяют достаточного внимания. Очевидно, что с точки зрения международных отношений изменение климата не так важно, как, например, международный терроризм. Однако переходные риски мы ощущаем сильнее, чем просто рост температуры или теплый январь в Москве.
Возвращаясь к планам по адаптации – они действуют на национальном уровне и уровне субъектов? Имеют ли регионы возможность самостоятельно регулировать повестку?
Да, Национальный план по адаптации был принят еще в 2021 году на обоих уровнях. Но делегация климатических полномочий не означает, что у регионов есть средства на то, чтобы с адаптаций справляться. Нельзя эту ответственность переложить только на уровень субъектов: издержки от таяния вечной мерзлоты все затронутые субъекты не смогут покрыть самостоятельно. Нужно национальное регулирование, в том числе деятельности компаний. Все знают про аварию на Норникеле, а ведь случилась она из-за несоблюдения компанией правил безопасности.
Адаптация к изменению климата — это процесс приспособления природных и человеческих систем к текущим или ожидаемым климатическим изменениям, включая повышение средних температур, изменение режима осадков, рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений.
Основная цель адаптации — минимизировать негативные последствия изменения климата и использовать возможные преимущества.
Что в России делается для успешной адаптации?
В России большой набор климатических рисков: на севере таяние вечной мерзлоты, в Приморье – осадки, в Краснодарском крае – экстремальные засухи. Сейчас у нас разрабатываются планы по адаптации – я бы однозначно оставила эту инициативу.
Также важный вопрос – переходные риски (риски, связанные с увеличением углеродного регулирования и барьеров в мире — прим. ред.), и в России этому не уделяют достаточного внимания. Очевидно, что с точки зрения международных отношений изменение климата не так важно, как, например, международный терроризм. Однако переходные риски мы ощущаем сильнее, чем просто рост температуры или теплый январь в Москве.
Возвращаясь к планам по адаптации – они действуют на национальном уровне и уровне субъектов? Имеют ли регионы возможность самостоятельно регулировать повестку?
Да, Национальный план по адаптации был принят еще в 2021 году на обоих уровнях. Но делегация климатических полномочий не означает, что у регионов есть средства на то, чтобы с адаптаций справляться. Нельзя эту ответственность переложить только на уровень субъектов: издержки от таяния вечной мерзлоты все затронутые субъекты не смогут покрыть самостоятельно. Нужно национальное регулирование, в том числе деятельности компаний. Все знают про аварию на Норникеле, а ведь случилась она из-за несоблюдения компанией правил безопасности.
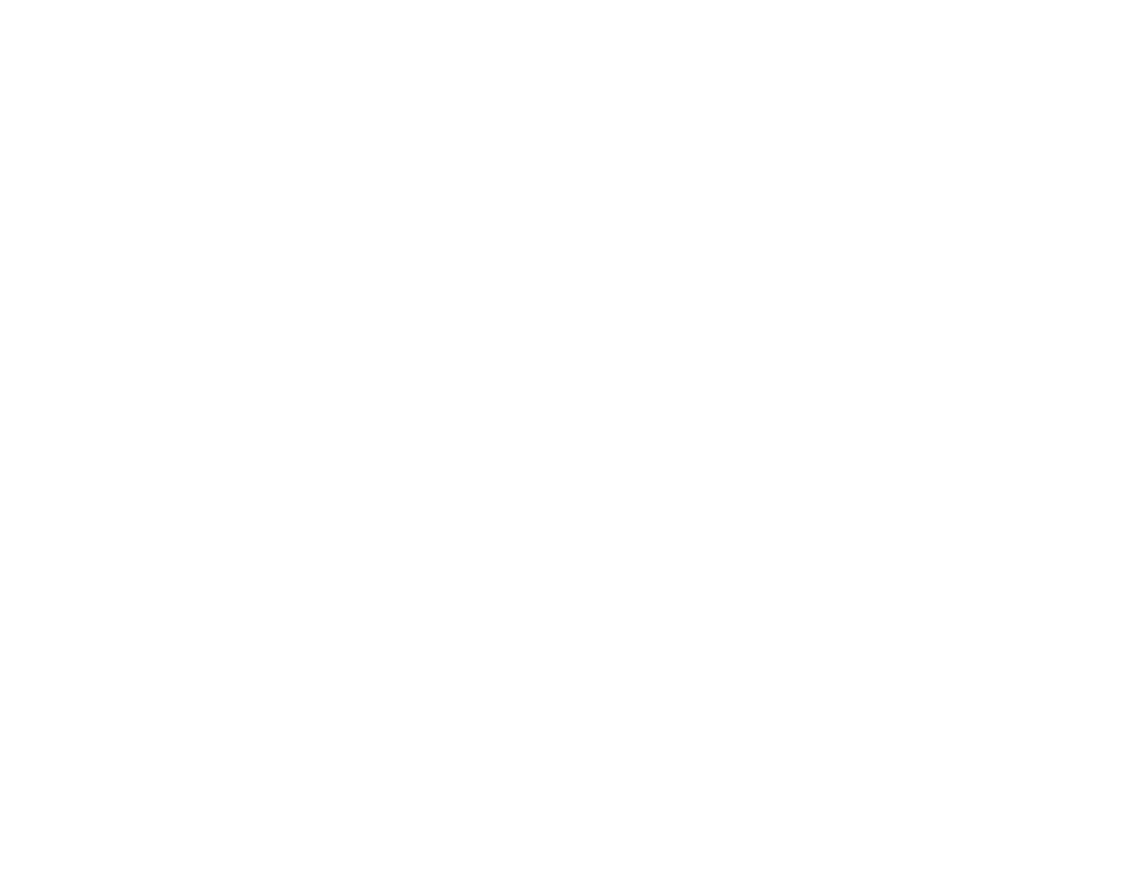
Вечная мерзлота в России
Вернемся к энергопереходу, если мы перестанем использовать нефть и газ и начнем переходить на возобновляемые источники энергии, разве это не приведет к негативным последствиям для экономики и благосостояния граждан? Возрастут налоги, цены на товары и услуги.
Здесь важно раскрыть два понятия – капитальные и операционные издержки. Чтобы построить угольную станцию, ваши первоначальные, или капитальные, издержки будут меньше, чем при строительстве солнечной панели. А операционные издержки будут выше, так как вам придется постоянно пополнять запасы угля. Капитальные издержки при установлении солнечной панели будут выше, потому что для ее установления нужны дорогостоящие технологии, но зато потом произведенная энергия будет для вас по сути бесплатной: вам нужно только солнце.
Но более актуальна проблема хранения и транспортировки такой энергии. Вы не можете поставить много ветрогенераторов, например, на юге Германии, так как климатические условия это не позволят. Вы могли бы поставить их на севере, но тогда встает вопрос – как вы эту энергию перевезете на юг? Конечно, такие технологии уже разрабатываются, но они очень дорогие.
На первоначальном этапе стоит поддерживать малые установки. Кстати, в России есть закон, поддерживающий устройство солнечных панелей в домах: можно получить льготы за установку таких панелей. Это получится менее затратно, чем повсеместная обязательная установка.
Что будет с трендом на зеленую повестку энергопереход в ближайшие десять-пятнадцать лет?
С учетом геополитического контекста сложно об этом рассуждать. Люди слышат о выходе Трампа из Парижского соглашения и сразу думают: “Зеленая повестка умерла”. Выход США не сильно что-то изменит, так как есть другие развитые и развивающиеся страны, где есть запрос на энергопереход. Например, многие государственные программы в Китае поставлены на рельсы зеленого перехода, и дальше это будет только развиваться.
В России ESG-повестка на корпоративном уровне, вероятно, может сойти на нет, так как многие зарубежные компании, запустившие тренд на нее, ушли. Но для нас расширяется китайский рынок, придерживающийся идеи сокращения углеродного следа. Также Россия продвигает идею глобального Юга, а ведь именно на эти страны приходится большинство выбросов. Председательство России в БРИКС доказало, что Россия заинтересована в продвижении зеленой повестки: намечены планы на создание собственного климатического центра, базы данных. Можно сказать, что Россия не выпадает из международного контекста, а поэтому не выпадет и из тренда на следование климатической повестке.
Здесь важно раскрыть два понятия – капитальные и операционные издержки. Чтобы построить угольную станцию, ваши первоначальные, или капитальные, издержки будут меньше, чем при строительстве солнечной панели. А операционные издержки будут выше, так как вам придется постоянно пополнять запасы угля. Капитальные издержки при установлении солнечной панели будут выше, потому что для ее установления нужны дорогостоящие технологии, но зато потом произведенная энергия будет для вас по сути бесплатной: вам нужно только солнце.
Но более актуальна проблема хранения и транспортировки такой энергии. Вы не можете поставить много ветрогенераторов, например, на юге Германии, так как климатические условия это не позволят. Вы могли бы поставить их на севере, но тогда встает вопрос – как вы эту энергию перевезете на юг? Конечно, такие технологии уже разрабатываются, но они очень дорогие.
На первоначальном этапе стоит поддерживать малые установки. Кстати, в России есть закон, поддерживающий устройство солнечных панелей в домах: можно получить льготы за установку таких панелей. Это получится менее затратно, чем повсеместная обязательная установка.
Что будет с трендом на зеленую повестку энергопереход в ближайшие десять-пятнадцать лет?
С учетом геополитического контекста сложно об этом рассуждать. Люди слышат о выходе Трампа из Парижского соглашения и сразу думают: “Зеленая повестка умерла”. Выход США не сильно что-то изменит, так как есть другие развитые и развивающиеся страны, где есть запрос на энергопереход. Например, многие государственные программы в Китае поставлены на рельсы зеленого перехода, и дальше это будет только развиваться.
В России ESG-повестка на корпоративном уровне, вероятно, может сойти на нет, так как многие зарубежные компании, запустившие тренд на нее, ушли. Но для нас расширяется китайский рынок, придерживающийся идеи сокращения углеродного следа. Также Россия продвигает идею глобального Юга, а ведь именно на эти страны приходится большинство выбросов. Председательство России в БРИКС доказало, что Россия заинтересована в продвижении зеленой повестки: намечены планы на создание собственного климатического центра, базы данных. Можно сказать, что Россия не выпадает из международного контекста, а поэтому не выпадет и из тренда на следование климатической повестке.
Вам понравилась эта статья?
Читайте также:

