Александра Алёшина / 01.03.2025 / 3 минуты
Свобода от наследия: деколониальный поворот на латиноамериканской почве
Латиноамериканские страны — дети двух цивилизаций, рожденные в буре завоеваний, революций и диктатур. Но что делать с этим наследием, если оно оказалось не столько сокровищем, сколько кандалами? В ХХI веке регион переживает новый поворот: отказ от колониального груза и поиск подлинной идентичности. Национальные элиты, интеллектуалы и активисты пересматривают историю, деконструируют мифы и переписывают правила игры — порой радикально, порой осторожно, но всегда с ощущением, что прежние карты больше не годятся. Каковы границы этого движения, и не рискует ли оно превратиться в новый миф?
- Александра Алёшинаколумнист FOUR
Летопись латиноамериканского региона полна историй вмешательства развитых стран. Более чем двухвековое колониальное господство Испании и Португалии, треугольная торговля, принудительная миграция рабов, этноцид и большая дубинка северного соседа… Всё это не могло не предопределить культурную идентичность населения и вектор политики их стран, в которых автономность становится одним из приоритетов.
Вспоминая о латиноамериканской борьбе с гегемонизмом, в голове рисуются образы от первых восставших креолов до бразильского президента Лула де Силвы, продвинувшего интеграцию в БРИКС, и венесуэльского лидера Уго Чавеса, с трибуны ООН называвшего Джорджа Буша “el diablo” (дьявол - прим. ред.). Однако сегодня латиноамериканские правители, антагонистически настроенные против бывших метрополий, в меньшинстве, учитывая постоянно меняющийся политический маятник в регионе: власть переходит от левых к правым, от более открытых к миру к более сосредоточенным на себе (вспомним заморозку вступления в БРИКС Аргентины при Хавьере Милее). Латиноамериканская мысль и строящаяся на ее основе внешняя политика не столько про пафосно окрашенную борьбу с бывшими метрополиями и неоколонизаторами, сколько про адаптацию к объективной реальности и поиск способов занять своё место под солнцем в имеющихся условиях зависимости.
Прибытие в регион первых иберийских конкистадоров положило начало долгому колониальному периоду в истории Латинской Америки. Идея постколониализма, зародившаяся во второй половине XX века в среде интеллектуалов-выходцев из бывших колоний Франции и Великобритании, стала первым массовым интеллектуальным направлением, сконцентрировавшимся на анализе последствий колониализма и подвергнувшем критике западную культурую гегемонию. Осознание собственной “инаковости”, взгляд на самих себя как на угнетённых (в этой связи важно понятие субалтерн, обозначающее “невидимые” группы людей, лишённые возможности быть услышанными), отход от западного понимания международных отношений - вот основные заслуги этого критического подхода. Постколониализм весьма скоро был принят и в Латинской Америке, поскольку страны региона тоже имеют длительное колониальное прошлое. Однако их локальный опыт не идентичен опыту колоний Британской и Французской империй. Более того, классический постколониализм, как ни парадоксально, критиковали за засилье англосаксонского доминирования в теории. Появилась потребность в формировании в регионе собственной традиции осмысления колониального наследия, а не простого заимствования аналитической рамки, находящейся под влиянием западноевропейских интеллектуальных традиций.
Вспоминая о латиноамериканской борьбе с гегемонизмом, в голове рисуются образы от первых восставших креолов до бразильского президента Лула де Силвы, продвинувшего интеграцию в БРИКС, и венесуэльского лидера Уго Чавеса, с трибуны ООН называвшего Джорджа Буша “el diablo” (дьявол - прим. ред.). Однако сегодня латиноамериканские правители, антагонистически настроенные против бывших метрополий, в меньшинстве, учитывая постоянно меняющийся политический маятник в регионе: власть переходит от левых к правым, от более открытых к миру к более сосредоточенным на себе (вспомним заморозку вступления в БРИКС Аргентины при Хавьере Милее). Латиноамериканская мысль и строящаяся на ее основе внешняя политика не столько про пафосно окрашенную борьбу с бывшими метрополиями и неоколонизаторами, сколько про адаптацию к объективной реальности и поиск способов занять своё место под солнцем в имеющихся условиях зависимости.
Прибытие в регион первых иберийских конкистадоров положило начало долгому колониальному периоду в истории Латинской Америки. Идея постколониализма, зародившаяся во второй половине XX века в среде интеллектуалов-выходцев из бывших колоний Франции и Великобритании, стала первым массовым интеллектуальным направлением, сконцентрировавшимся на анализе последствий колониализма и подвергнувшем критике западную культурую гегемонию. Осознание собственной “инаковости”, взгляд на самих себя как на угнетённых (в этой связи важно понятие субалтерн, обозначающее “невидимые” группы людей, лишённые возможности быть услышанными), отход от западного понимания международных отношений - вот основные заслуги этого критического подхода. Постколониализм весьма скоро был принят и в Латинской Америке, поскольку страны региона тоже имеют длительное колониальное прошлое. Однако их локальный опыт не идентичен опыту колоний Британской и Французской империй. Более того, классический постколониализм, как ни парадоксально, критиковали за засилье англосаксонского доминирования в теории. Появилась потребность в формировании в регионе собственной традиции осмысления колониального наследия, а не простого заимствования аналитической рамки, находящейся под влиянием западноевропейских интеллектуальных традиций.
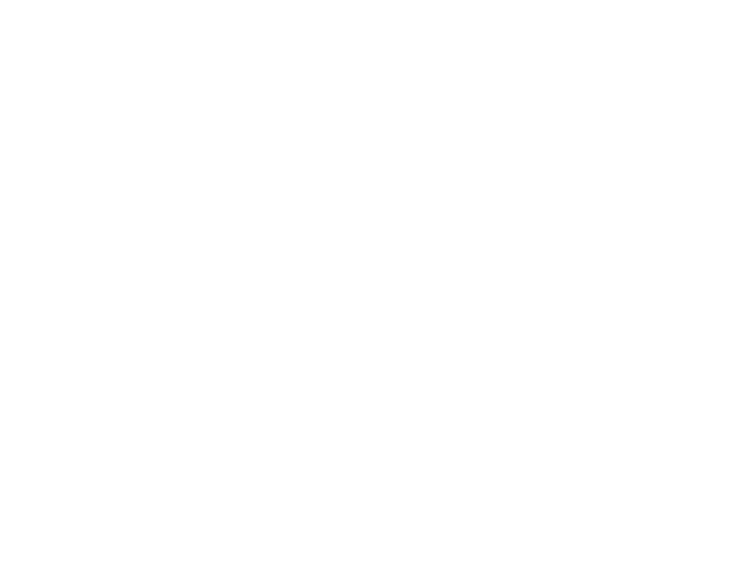
Ярким событием на пути развития идеи постколониализма в Латинской Америке стала публикация книги “Visiо́n de los Vencidos” (Точка зрения побеждённых) Мигеля Леона-Портильи, излагающей историю конкисты с позиции индейцев. Так, в региональной интеллектуальной среде произошёл сдвиг мышления, именуемый деколониальным поворотом. Предлог “де” в этом контексте имеет важное значение, так как подчёркивает, что состояние “колониальности” не преодолено окончательно (как можно подумать в случае наличия предлога “пост”) и что деколонизация - не завершившийся в начале XIX века в ходе войн за независимость процесс, а продолжающееся состояние, борьба за политическую и экономическую автономию, победить в которой - национальная цель для всех стран региона.
Региональный подход, в отличие от классического постколониализма, подчёркивает устойчивость колониальных структур власти даже при условии формальной политической независимости, обращает внимание на неоколониализм и проблемы глобализации. Постколониализм превратился из заимствованного способа анализировать колониальное прошлое в призму, через которую южноамериканские интеллектуалы смотрят почти на все аспекты современной мировой политики. А сами латиноамериканцы превратились из объекта исследования западноевропейских мыслителей в самих исследователей с автономным теоретическим подходом.
Деколониальная мысль вкупе с неомарксизмом стала теоретическом базисом для формирования в Латинской Америке собственной школы международных отношений, о которой говорить можно примерно с 1970-х годов. Её особенности - признание собственного периферийного положения на мировой арене и практикоориентированность (многие положения теоретиков не остались на бумаге, а стали “методичками” для политических лидеров).
Региональный подход, в отличие от классического постколониализма, подчёркивает устойчивость колониальных структур власти даже при условии формальной политической независимости, обращает внимание на неоколониализм и проблемы глобализации. Постколониализм превратился из заимствованного способа анализировать колониальное прошлое в призму, через которую южноамериканские интеллектуалы смотрят почти на все аспекты современной мировой политики. А сами латиноамериканцы превратились из объекта исследования западноевропейских мыслителей в самих исследователей с автономным теоретическим подходом.
Деколониальная мысль вкупе с неомарксизмом стала теоретическом базисом для формирования в Латинской Америке собственной школы международных отношений, о которой говорить можно примерно с 1970-х годов. Её особенности - признание собственного периферийного положения на мировой арене и практикоориентированность (многие положения теоретиков не остались на бумаге, а стали “методичками” для политических лидеров).
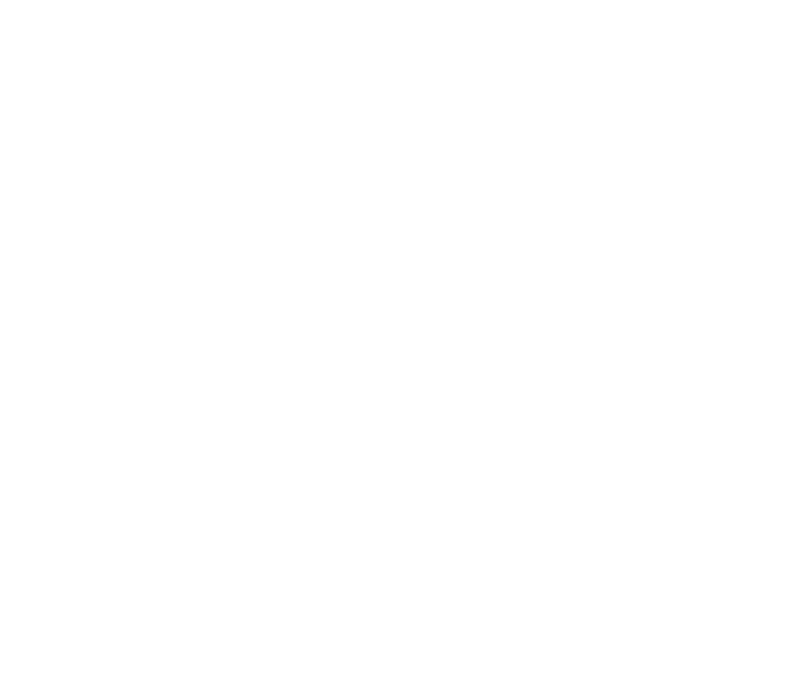
В первую очередь стоит сказать о теории зависимого развития, буквально выстроенной на кейсе Латинской Америки в XIX-XX веках. Её фундамент был заложен аргентинским экономистом Раулем Пребиш, обратившем внимание на неспособность классических западных теорий описать экономику своей страны. По мнению Пребиша, экономическое развитие “периферии” (к ней он относил все страны латиноамериканского региона) ограничено из-за зависимости от “ядра”. В результате государства вынуждены торговать первичным сырьём (а не промышленными товарами) на неравных условиях и вырождаться в “банановые республики”.
Рауль Пребиш одним из первых акцентировал внимание на необходимости анализа “снизу” - со стороны более бедной, более зависимой, более слабой страны. Такую оптику не могут предоставить классические подходы из США и стран Европы, ведь гегемонистское положение этих государств сказывается на их видении международных отношений, в результате чего они говорят не только про “иных”, но и за них. На основе теории зависимости была сформулирована концепция “периферийного капитализма”. Её автор, Карлос Эскуде, подчёркивал незыблемость иерархии международной системы и угнетённое положение Аргентины в ней. Эскуде пришёл к выводу о том, что амбициозная внешняя политика страны-периферии лишь навредит гражданам, понизив их благосостояние. Такое теоретически обоснованное кабальное отношение к США имело воплощение в 1990-е годы, особенно при президенте левом Карлосе Менеме: Аргентина вышла из Движения неприсоединения, была свёрнута программа разработки ядерного оружия, а отношения с США и Великобританией стремительно налаживались. Что интересно, Эскуде в то время занимал пост советника министра иностранных дел. Такое вот своеобразное воплощение философа на троне.
Иную реализацию теория зависимости имела при правоцентристском бразильском президенте Фернанду Кардозу. Социолог по образованию, он, как и другие авторы, подчёркивал подчинённое положение Латинской Америки и критиковал понимание западной модернизации как единственного пути превращения стран из развивающихся в развитые. При этом взгляд автора более оптимистичная: Кардозу не считал “зависимое состояние” и экономический прогресс взаимоисключающими элементами. Именно это он старался продемонстрировать в течение своих президентских сроков 1995-2003 гг. Кардозу имел чёткую позицию по ряду острых мировых вопросов, часто не совпадающую с “общепринятым” отношением. Так, лидер выступал за создание независимого Палестинского государства и вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН, а также совершил первую официальную поездку на Кубу. В целом, бразильская политика с конца 1980-х годов до настоящего времени во многом строится вокруг постулата о необходимости расширения самостоятельности и обретения субъектности. Свою концептуальную оболочку это обрело в теории автономии.
Рауль Пребиш одним из первых акцентировал внимание на необходимости анализа “снизу” - со стороны более бедной, более зависимой, более слабой страны. Такую оптику не могут предоставить классические подходы из США и стран Европы, ведь гегемонистское положение этих государств сказывается на их видении международных отношений, в результате чего они говорят не только про “иных”, но и за них. На основе теории зависимости была сформулирована концепция “периферийного капитализма”. Её автор, Карлос Эскуде, подчёркивал незыблемость иерархии международной системы и угнетённое положение Аргентины в ней. Эскуде пришёл к выводу о том, что амбициозная внешняя политика страны-периферии лишь навредит гражданам, понизив их благосостояние. Такое теоретически обоснованное кабальное отношение к США имело воплощение в 1990-е годы, особенно при президенте левом Карлосе Менеме: Аргентина вышла из Движения неприсоединения, была свёрнута программа разработки ядерного оружия, а отношения с США и Великобританией стремительно налаживались. Что интересно, Эскуде в то время занимал пост советника министра иностранных дел. Такое вот своеобразное воплощение философа на троне.
Иную реализацию теория зависимости имела при правоцентристском бразильском президенте Фернанду Кардозу. Социолог по образованию, он, как и другие авторы, подчёркивал подчинённое положение Латинской Америки и критиковал понимание западной модернизации как единственного пути превращения стран из развивающихся в развитые. При этом взгляд автора более оптимистичная: Кардозу не считал “зависимое состояние” и экономический прогресс взаимоисключающими элементами. Именно это он старался продемонстрировать в течение своих президентских сроков 1995-2003 гг. Кардозу имел чёткую позицию по ряду острых мировых вопросов, часто не совпадающую с “общепринятым” отношением. Так, лидер выступал за создание независимого Палестинского государства и вступление Бразилии в Совет Безопасности ООН, а также совершил первую официальную поездку на Кубу. В целом, бразильская политика с конца 1980-х годов до настоящего времени во многом строится вокруг постулата о необходимости расширения самостоятельности и обретения субъектности. Свою концептуальную оболочку это обрело в теории автономии.
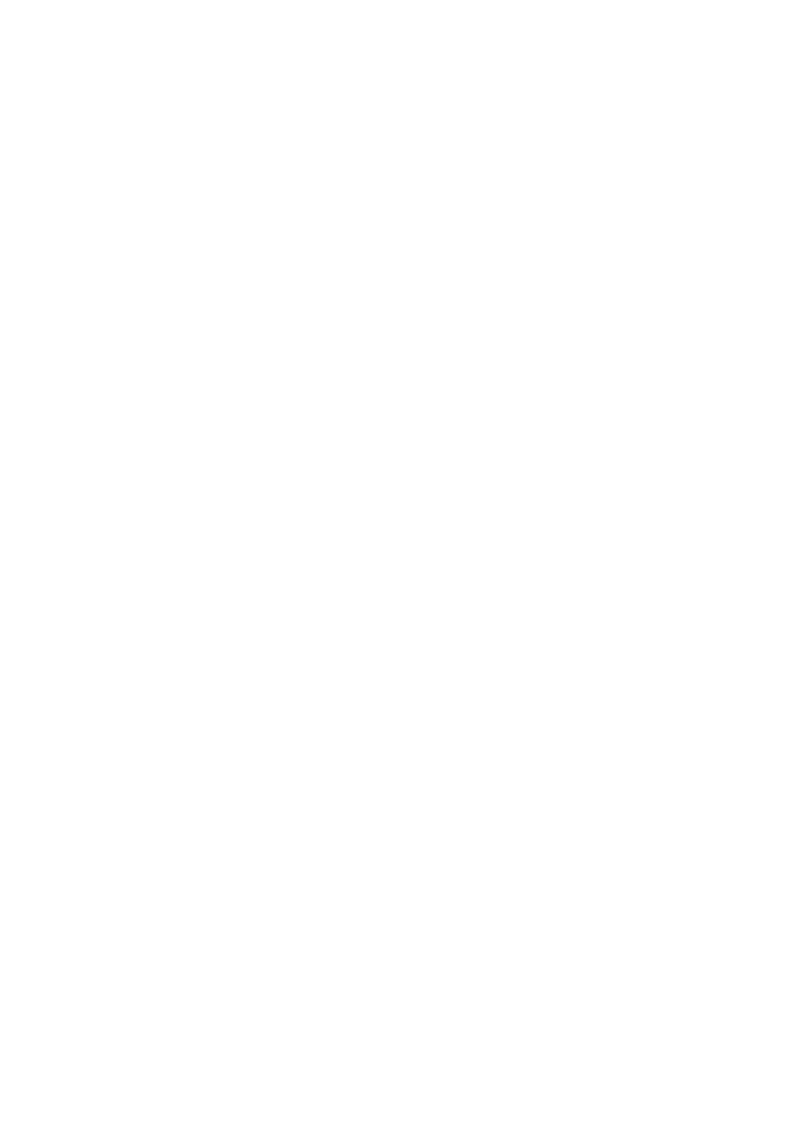
Фернанду Кардозу
Вопрос о том, как именно обрести бОльшую независимость во внешней политике и увеличить свой вес на мировой арене, является одним из ключевых для латиноамериканской мысли на современном этапе. Один из возможных ответов - межгосударственная интеграция, попытки осуществить которую стали уже традиционными для региона.
Первый такой проект был предложен ещё Симоном Боливаром в 1825 г. сразу после деколонизации. С тех пор было много попыток создания организации, которая смогла бы представлять латиноамериканские государства от лица единого наднационального органа. Один из амбициозных примеров - “Боливарианский альянс для народов нашей Америки” (АЛБА), предложенный Уго Чавесом в противовес объединениям с участием США. Однако АЛБА, как и многие другие организации, утратил свою популярность и востребованность почти одновременно с прошествием эпохи “ревущих нулевых”, в которой совпали неудовлетворённость неолиберальными реформами, мировой экономический рост и прочие благоприятные для левых политиков условия.
Несмотря на общность языка, религии и истории, государства Латинской Америки пока не пришли к такому международному альянсу, который в полной мере устраивал бы всех. Политическая турбулентность препятствует интеграции: приходящие ко власти правые сворачивают проекты и выходят из организаций, а левые, наоборот, восстанавливают членство, и так повторяется. Сегодня страны региона далеки от создания организации с сильными наднациональными институтами, которым они смогли бы передать часть суверенитета: население поляризовано между левыми и правыми, мировая экономика не растёт, а всё это происходит на фоне усиления противостояния США и Китая, в том числе и “на полях” Латинской Америки, что побуждает государства “закрыться в себе” и самостоятельно решать внутренние проблемы.
Первый такой проект был предложен ещё Симоном Боливаром в 1825 г. сразу после деколонизации. С тех пор было много попыток создания организации, которая смогла бы представлять латиноамериканские государства от лица единого наднационального органа. Один из амбициозных примеров - “Боливарианский альянс для народов нашей Америки” (АЛБА), предложенный Уго Чавесом в противовес объединениям с участием США. Однако АЛБА, как и многие другие организации, утратил свою популярность и востребованность почти одновременно с прошествием эпохи “ревущих нулевых”, в которой совпали неудовлетворённость неолиберальными реформами, мировой экономический рост и прочие благоприятные для левых политиков условия.
Несмотря на общность языка, религии и истории, государства Латинской Америки пока не пришли к такому международному альянсу, который в полной мере устраивал бы всех. Политическая турбулентность препятствует интеграции: приходящие ко власти правые сворачивают проекты и выходят из организаций, а левые, наоборот, восстанавливают членство, и так повторяется. Сегодня страны региона далеки от создания организации с сильными наднациональными институтами, которым они смогли бы передать часть суверенитета: население поляризовано между левыми и правыми, мировая экономика не растёт, а всё это происходит на фоне усиления противостояния США и Китая, в том числе и “на полях” Латинской Америки, что побуждает государства “закрыться в себе” и самостоятельно решать внутренние проблемы.
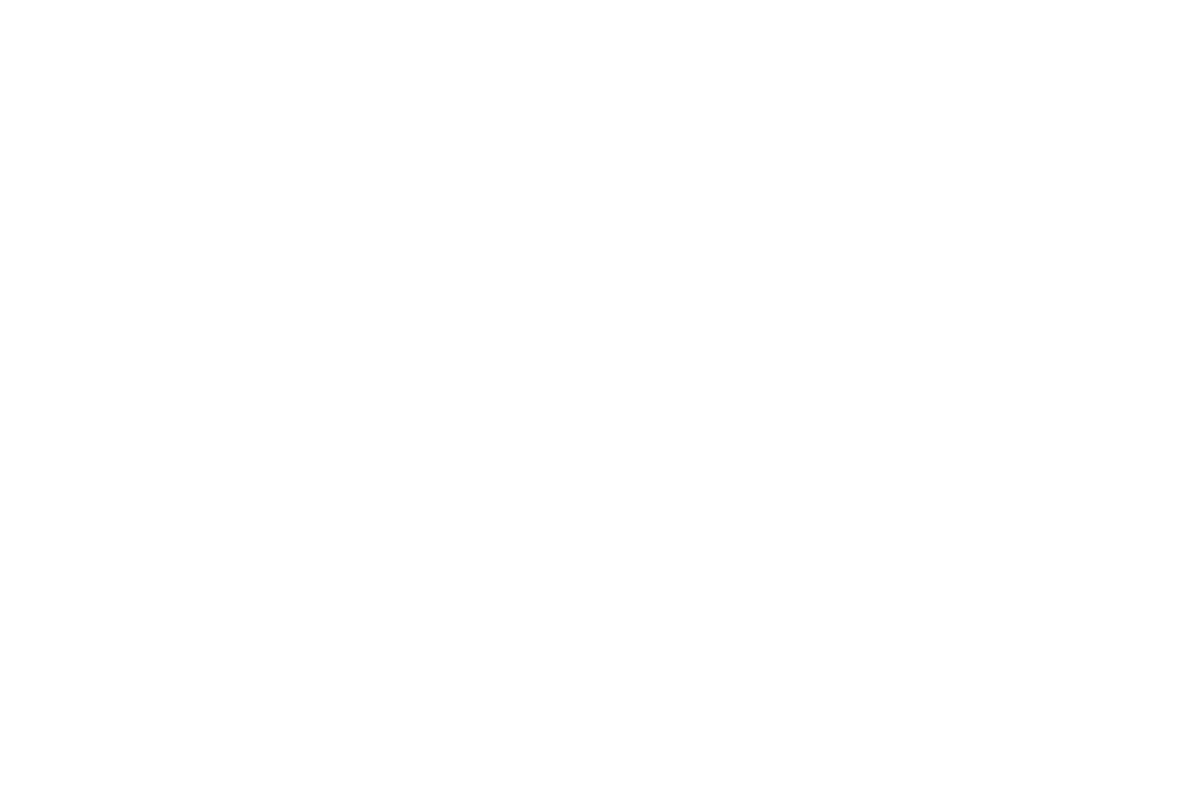
Общую тенденцию во всех упомянутых деколониальных теориях найти нетрудно. Политическая и интеллектуальная элита Латинской Америки осознаёт собственное оторванное положение от “ядра”, подчёркивает неравенство конкуренции с развитыми странами и настороженно относится к глобализации, которая может привести лишь к увеличению зависимости. Однако способы адаптации к сложившемуся состоянию кардинально отличаются: то ли следует подчиниться и постараться извлечь лучшее из благ северного соседа ради благополучия собственного населения, то ли вести игру по своим правилам в попытках обрести бОльшую самостоятельность и повысить авторитет. Во внешней торговле стран региона жизненно важную долю всё ещё занимают США, экономика некоторых государств, особенно центральноамериканских, поддерживает жизнеспособность только за счёт экспорта на территорию штатов, крупные компании которых вмешиваются во внутреннюю политику таких неэквивалентных “партнёров”. Приход Д. Трампа ко власти только подогрел волнения о возможном усилении давления США на регион, о чём говорит напряжённость отношений с Мексикой, Панамой, Колумбией и Венесуэлой. Одновременно в регионе приобретают силу и “новые державы” - Китай, например, инвестирует в крупные инфраструктурные проекты. Такие внешние условия, очевидно, не способствуют автономизации Латинской Америки. Лишь время покажет, воплотятся ли в жизнь чаяния деколониальных теоретиков или зависимость продолжит сохраняться, обретая новые формы и альтернативных покровителей.
Вам понравилась эта статья?
Читайте также:

