Колонка редактора / 16.05.2025 / 3 минуты
Лицо, ставшее улицей
Пока мир окончательно превращается в кино, где разлюбившие друг друга пытаются склеить отношения и все-все-все мечтают вернуться домой — к себе прежнему, к себе помнящему, — самое время поговорить об одном из главных лиц в важнейшем из искусств сегодня — о Роберте де Ниро.
- Фёдор АлексеевГлавный редактор "FOUR"
Он всю жизнь играл чужих, чтобы лучше понять себя. Или наоборот – играл себя, но под чужими масками. Тех, кто на дне, на взводе, на грани. Таксиста с глазами апостола, гангстера, который плачет в подушку, боксера, разрушающего все, что любит, человека, в котором всегда зреет нечто темное, в зависимости от жанра: либо преступление, либо истина. И теперь получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, которая не просто награда, не просто вежливое рукопожатие великому, а в какой-то степени подведение итогов, попытка зафиксировать, увековечить, создать стоп-кадр на фоне ускользающего века. Канны всегда умели это: сказать киношное "прощай" так, чтобы в этом звучало "спасибо".
Роберт де Ниро как целая эпоха, которая живет с нами в одном временном пространстве. Не просто актер, а уже целый архетип, человек, переживший крах американской мечты, переживший собственную брутальность, переживший себя самого. Его герои редко бывают по-настоящему живыми, скорее, они становятся ритуальными фигурами, олицетворяющими не конкретного человека, а некий нерв, срез культуры, симптом.
Поначалу он был чистой яростью, как если бы кто-то дал пламени форму человека, а его лицо словно вырезано из бетона, но с трещинами, из которых то и дело сочится страх, обида, боль, уязвимость. У Мартина Скорсезе он играл людей, которых съела их собственная система координат, буквально банальность зла – боксер, не способный отличить любовь от контроля, гангстер, верящий в кодекс, который никого не спасает, ветеран, разговаривающий с зеркалом, потому что никого больше нет. Но в каждом из них всегда была надежда, присыпанная пеплом, упрятанная под слои грубости, но все же надежда. Кто, как не де Ниро, понимает, что нет ничего хуже ни на чем не основанной надежды.
Роберт де Ниро как целая эпоха, которая живет с нами в одном временном пространстве. Не просто актер, а уже целый архетип, человек, переживший крах американской мечты, переживший собственную брутальность, переживший себя самого. Его герои редко бывают по-настоящему живыми, скорее, они становятся ритуальными фигурами, олицетворяющими не конкретного человека, а некий нерв, срез культуры, симптом.
Поначалу он был чистой яростью, как если бы кто-то дал пламени форму человека, а его лицо словно вырезано из бетона, но с трещинами, из которых то и дело сочится страх, обида, боль, уязвимость. У Мартина Скорсезе он играл людей, которых съела их собственная система координат, буквально банальность зла – боксер, не способный отличить любовь от контроля, гангстер, верящий в кодекс, который никого не спасает, ветеран, разговаривающий с зеркалом, потому что никого больше нет. Но в каждом из них всегда была надежда, присыпанная пеплом, упрятанная под слои грубости, но все же надежда. Кто, как не де Ниро, понимает, что нет ничего хуже ни на чем не основанной надежды.
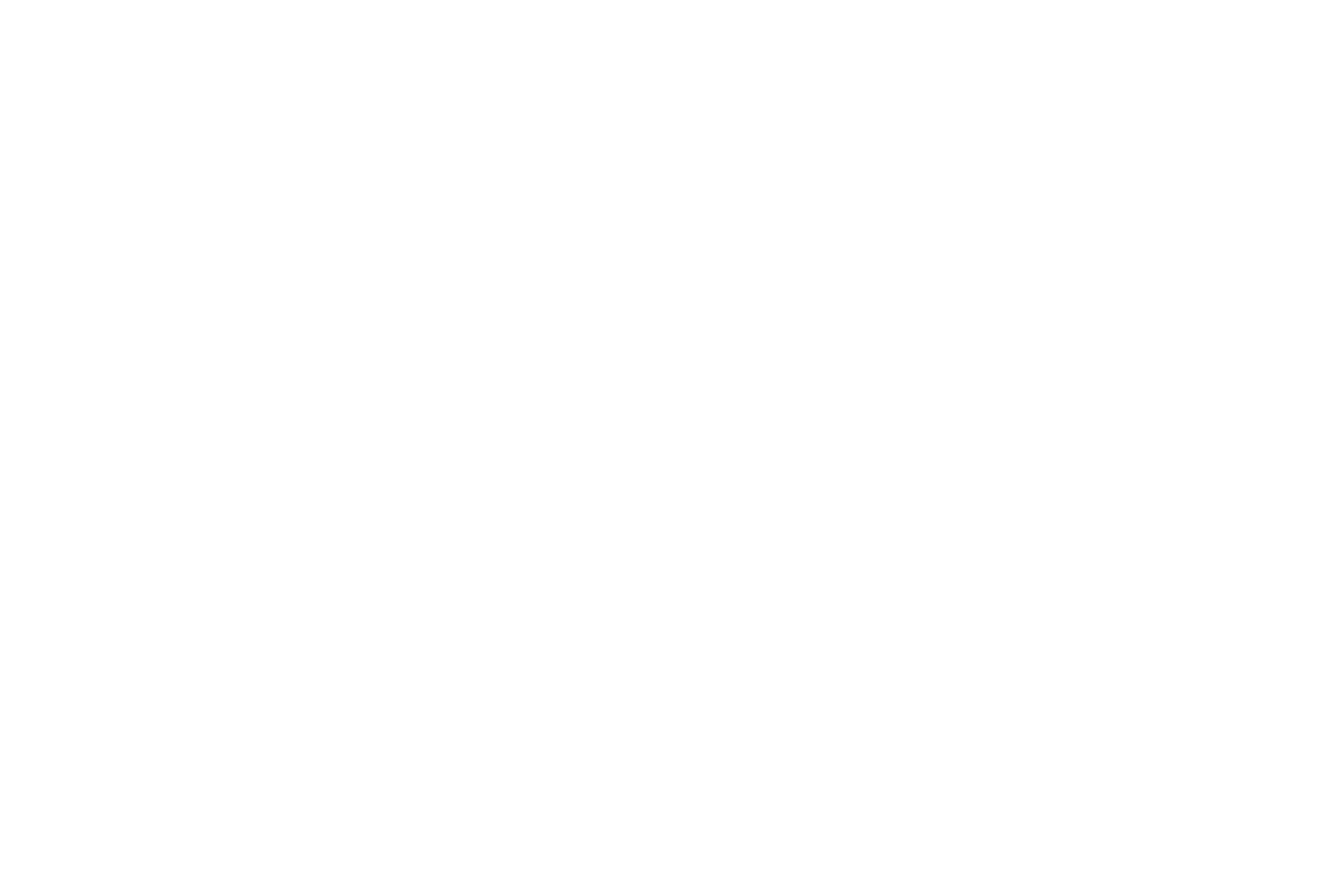
Робер де Ниро получает заслуженную награду
В зрелости он играл хозяина судьбы, готового без тени сомнения распорядиться жизнями других, но и к собственной неминуемой смерти относившегося хладнокровно. А потом пришла старость. И вместе с ней – роли, где уже не нужно было играть хищников. Теперь это чаще те, кто выжил: стареющий отец, несмешной дедушка, молчаливый свидетель собственной жизни. И все же даже здесь, например в "Ирландце", он сыграл одну из главнейших ролей, когда разобрал на части свой собственный миф, напоминающий какой-то дурной сон, где осталась единственная, хоть и довольно призрачная возможность увидеть себя со стороны, как какого-нибудь незнакомца в толпе, как истинного себя. Это был миф, безусловно, сконструированный медиа и отчасти личной волей де Ниро, но в "Ирландце" он разрушил его, убрал всю броню, чтобы в итоге остался только человек. Простой, неяркий, потерянный. Финал "Ирландца" – это не просто кадры из дома престарелых, а финал эпохи, американская пустота, где есть только старик, которому больше некому позвонить, ибо тот, кто был всем – теперь никто. Миф, приведенный к нулю.
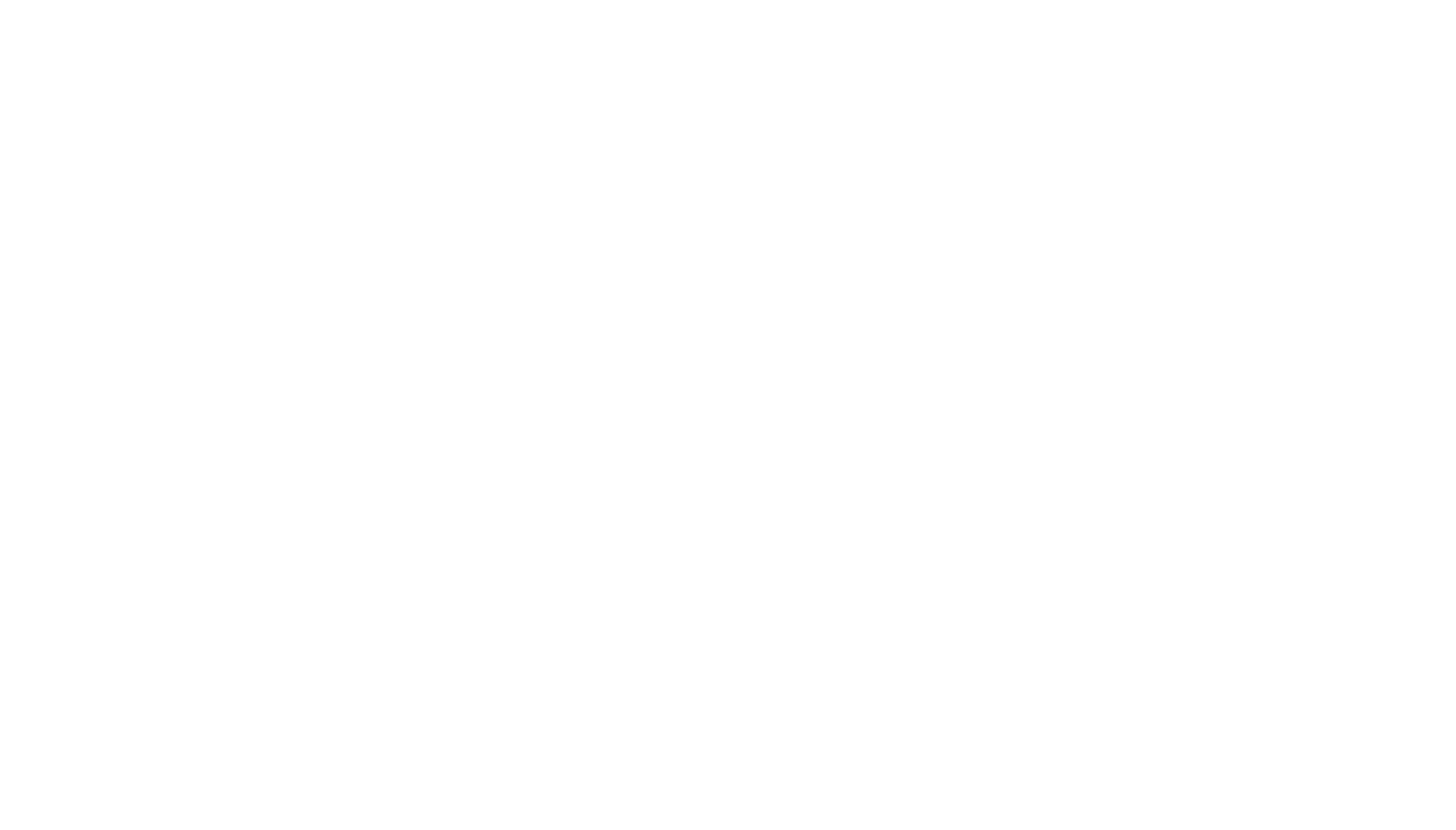
Роберт де Ниро
И в этом, наверное, самая сильная черта личности де Ниро – он не боится быть слабым и готов по-настоящему смотреть в лицо времени. Даже его сегодняшние публичные выступления, причем почти всегда неловкие, слишком эмоциональные, политически грубоватые – тоже форма этой честности. И даже его карьера – это та же самая честность, не какая-то глянцевая, а уличная, где может быть и грязь, и слякоть, и кровь, и непонятные отношения с бандитами, да даже вкус поражения. Де Ниро не пытается строить из себя святого, ибо он есть воплощение своей главной кинодекорации – Нью-Йорка – такой же шумный, неспокойный, порой мрачный. А что до святых, то есть ощущение, что их всех окончательно вынесут и забудут, но почему-то совсем не страшно, ибо "из рая все равно прогнали и обратно уже не пустят".
В "Убийцах цветочной луны" Роберт де Ниро нас убедил, что у важнейшего из искусств есть будущее. Конечно, он понимает, что все конечно, и особенно его собственная жизнь. Все ушли, все в прошлом, как в финале "Банд Нью-Йорка" Мартина Скорсезе: вот они дерутся на улицах, вот их проблемы, а вот их могилы, что через мгновение поросли сторицей. Зачем вечными вопросами мучились мои друзья, зачем страдал я? Затем, что мы выбрали жить? Ну так долгая жизнь так же ничего не значит, что и оборвавшаяся в юности. Де Ниро выходил на сцену Канн как человек, сделавший все, он ведь и сам – кино, тот, кто пережил всех, кто дожил до дня, когда можно просто не играть, когда можно просто быть, когда не нужно делать ничего зря – ходить на вечеринки, сидеть в кафе, но можно просто смотреть кино, ибо из ее Мекки тебя уже никогда не выгонят.
В "Убийцах цветочной луны" Роберт де Ниро нас убедил, что у важнейшего из искусств есть будущее. Конечно, он понимает, что все конечно, и особенно его собственная жизнь. Все ушли, все в прошлом, как в финале "Банд Нью-Йорка" Мартина Скорсезе: вот они дерутся на улицах, вот их проблемы, а вот их могилы, что через мгновение поросли сторицей. Зачем вечными вопросами мучились мои друзья, зачем страдал я? Затем, что мы выбрали жить? Ну так долгая жизнь так же ничего не значит, что и оборвавшаяся в юности. Де Ниро выходил на сцену Канн как человек, сделавший все, он ведь и сам – кино, тот, кто пережил всех, кто дожил до дня, когда можно просто не играть, когда можно просто быть, когда не нужно делать ничего зря – ходить на вечеринки, сидеть в кафе, но можно просто смотреть кино, ибо из ее Мекки тебя уже никогда не выгонят.
Вам понравилась эта статья?
Смотрите также:

