Колонка редактора / 04.04.2025 / 2 минуты
А что тебе должен писатель?
Когда-то писатель был пророком, проводником, человеком, который одним метким словом мог сдвинуть пласт реальности. Теперь он – производитель контента, придаток к алгоритму, вечный должник перед рынком, которому всегда нужно больше: больше кликов, больше просмотров, больше вирусных фраз. Что остаётся от литературы, когда писатель превращается в обслуживающий персонал чужих ожиданий?
- Фёдор АлексеевГлавный редактор "FOUR"
В декабре 1969 года Хосе Мария Аргедас, один из главных писателей Перу, зашел в университетскую аудиторию, где преподавал, достал револьвер и выстрелил себе в голову. Выбрал для этого полдень субботы – время, когда никто не учится, когда коридоры пусты и не нужно волноваться, что кто-то увидит больше, чем нужно. Рядом с ним нашли письмо, точнее – детальный сценарий его похорон: кто должен прийти, какие речи говорить, какую музыку играть. Жизнь его была скромной, почти незаметной, зато похороны он поставил как настоящий спектакль.
Позже нашли и другие письма: друзьям, коллегам, даже политикам. Он объяснял, почему решил уйти. В одних письмах – чистая личная драма: кончились силы, иссяк талант, ничего больше не написать. В других – совсем другая тональность: его выматывало безысходное социальное неравенство, экономический кризис, давление власти, цензура, репрессии. Аргедас не был политиком, но ему приходилось жить в мире, где от писателя требовали, чтобы он им был.
Позже нашли и другие письма: друзьям, коллегам, даже политикам. Он объяснял, почему решил уйти. В одних письмах – чистая личная драма: кончились силы, иссяк талант, ничего больше не написать. В других – совсем другая тональность: его выматывало безысходное социальное неравенство, экономический кризис, давление власти, цензура, репрессии. Аргедас не был политиком, но ему приходилось жить в мире, где от писателя требовали, чтобы он им был.
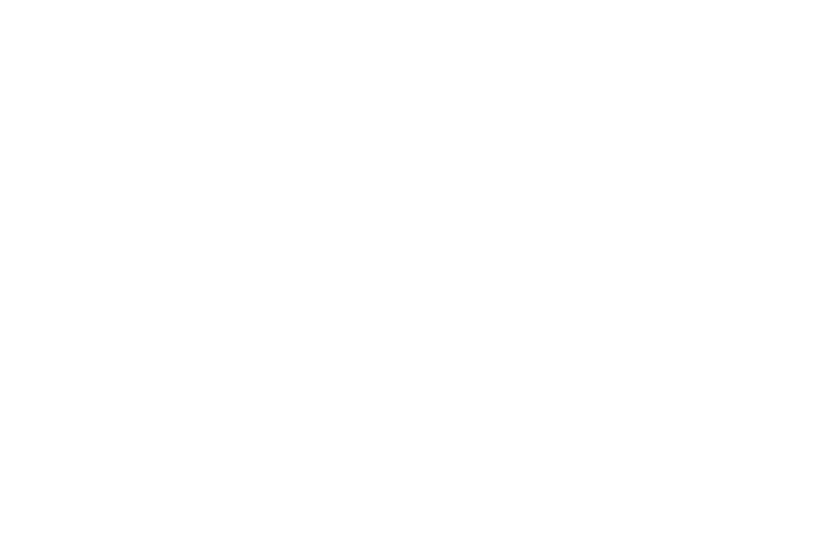
Хосе Мария Аргедас
Это старый, мучительный вопрос: почему латиноамериканский писатель вынужден быть не только автором, но и пророком, летописцем, судьей, а иногда – мучеником? Почему литература здесь – не просто литература, а последний и единственный голос, который может рассказать о реальном положении вещей? В Латинской Америке художественный текст заменил свободную прессу, независимую науку, честную публицистику. Там, где газеты молчат, писатели говорят. И чем жестче власть, тем громче они говорят.
В 50-е годы это называли «писательским компромиссом». Но на самом деле это было не соглашение, а приговор. Если ты в литературе – значит, ты уже в политике, хочешь ты этого или нет. Ты либо обличаешь, либо замалчиваешь, третьего не дано. Если замалчиваешь, тебя презирают, если обличаешь, тебя репрессируют. Это не твой выбор, а закон жанра.
Военные диктатуры XX века закрывали университеты, запрещали газеты, сажали журналистов, но к книгам относились почти снисходительно. Литература казалась чем-то далеким, абстрактным, элитарным. Этой ошибки хватило, чтобы она стала главным политическим инструментом эпохи. Пока аргентинское телевидение не говорило о пропавших без вести, в книгах их судьба становилась частью национального эпоса. Пока чилийское радио не упоминало о политзаключенных, их истории попадали в романы. Государство контролировало всё – кроме языка.
Эта традиция идет из глубины веков: еще в колониальную эпоху именно памфлеты и книги интеллигенции становились ключевым оружием в борьбе за независимость. Литература взяла на себя функции, которыми обычно занимаются ученые, журналисты, историки, и чем слабее становилось государство, тем больше от нее ждали. Магический реализм, флагманский жанр латиноамериканской литературы, тоже оказался не просто стилистическим приемом, а способом соединить действительность и миф, фантазию и хронику, личное и социальное.
В 50-е годы это называли «писательским компромиссом». Но на самом деле это было не соглашение, а приговор. Если ты в литературе – значит, ты уже в политике, хочешь ты этого или нет. Ты либо обличаешь, либо замалчиваешь, третьего не дано. Если замалчиваешь, тебя презирают, если обличаешь, тебя репрессируют. Это не твой выбор, а закон жанра.
Военные диктатуры XX века закрывали университеты, запрещали газеты, сажали журналистов, но к книгам относились почти снисходительно. Литература казалась чем-то далеким, абстрактным, элитарным. Этой ошибки хватило, чтобы она стала главным политическим инструментом эпохи. Пока аргентинское телевидение не говорило о пропавших без вести, в книгах их судьба становилась частью национального эпоса. Пока чилийское радио не упоминало о политзаключенных, их истории попадали в романы. Государство контролировало всё – кроме языка.
Эта традиция идет из глубины веков: еще в колониальную эпоху именно памфлеты и книги интеллигенции становились ключевым оружием в борьбе за независимость. Литература взяла на себя функции, которыми обычно занимаются ученые, журналисты, историки, и чем слабее становилось государство, тем больше от нее ждали. Магический реализм, флагманский жанр латиноамериканской литературы, тоже оказался не просто стилистическим приемом, а способом соединить действительность и миф, фантазию и хронику, личное и социальное.
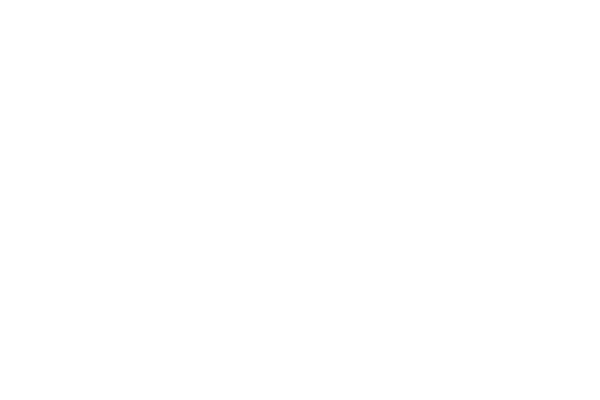
Габриэль Гарсия Маркес
И в этом скрыта главная трагедия. Когда общество требует от писателя правды и морали, оно перестает ждать от него литературы. Оно хочет от него инструкций, пророчеств, диагноза. Оно хочет, чтобы книга не рассказывала, а объясняла, не описывала, а лечила. Хорошие намерения редко превращаются в хорошую литературу. Литература, которая хочет спасти общество, часто становится его жертвой.
Хосе Мария Аргедас застрелился в тот момент, когда почувствовал: его не ждут как писателя, его ждут как судью и проповедника. Он не мог быть тем, кем его хотели видеть, и не мог не быть им. Такая же судьба постигла Гарсиа Лорку, Варгаса Льосу, бесчисленное множество других. Это универсальный закон авторитарных режимов: диктаторы убивают поэтов. Иногда буквально, иногда медленно и мучительно. Впрочем, если посмотреть шире, не только диктаторы. Просто диктаторы делают это быстрее.
Невольно задаешься вопросом: если настоящая литература действительно способна менять общественные настроения, менять сознание людей, то насколько она может быть ответственна за общественно-политические сдвиги в стране, особенно за те, которые приводят к негативным последствиям? И может ли литература быть за что-то ответственна? Вопрос, который в русской литературе давно превратился в навязчивую идею. Кто виноват – писатель или читатель?
Хосе Мария Аргедас застрелился в тот момент, когда почувствовал: его не ждут как писателя, его ждут как судью и проповедника. Он не мог быть тем, кем его хотели видеть, и не мог не быть им. Такая же судьба постигла Гарсиа Лорку, Варгаса Льосу, бесчисленное множество других. Это универсальный закон авторитарных режимов: диктаторы убивают поэтов. Иногда буквально, иногда медленно и мучительно. Впрочем, если посмотреть шире, не только диктаторы. Просто диктаторы делают это быстрее.
Невольно задаешься вопросом: если настоящая литература действительно способна менять общественные настроения, менять сознание людей, то насколько она может быть ответственна за общественно-политические сдвиги в стране, особенно за те, которые приводят к негативным последствиям? И может ли литература быть за что-то ответственна? Вопрос, который в русской литературе давно превратился в навязчивую идею. Кто виноват – писатель или читатель?
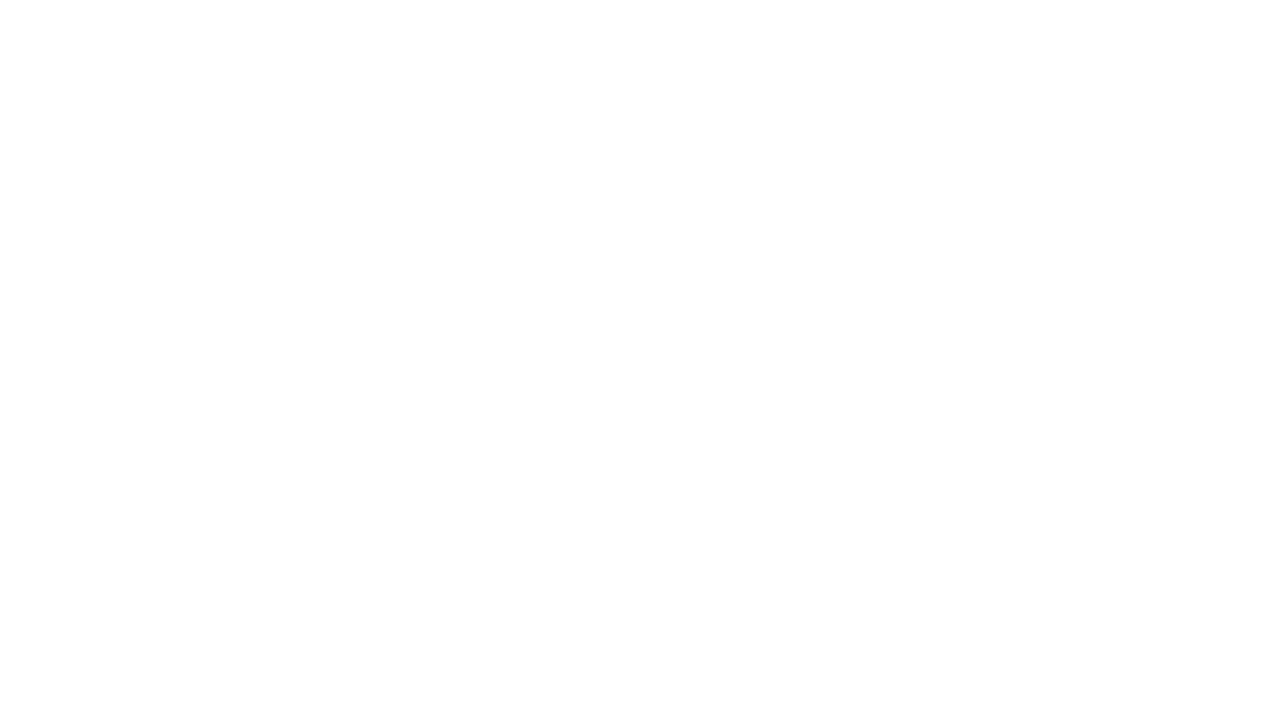
Лев Толстой
А если литература и правда меняет общественные настроения, если она может менять сознание людей, значит ли это, что она несет ответственность за общественно-политические сдвиги в стране? И если да, то в какой мере – и кто в итоге напишет приговор?
Вопрос, конечно, важный, но он из той категории, которые настолько заезжены, что их обсуждение приносит больше вреда, чем пользы. Русская литература, например, умудрилась довести себя этим вопросом до полной изнеможенности. Она десятилетиями спорила о том, виновата ли она во всем, что произошло в стране, и если виновата, то в какой мере. Она бродила по глухому лесу трех вечных тем – истина против Родины, лишний человек против сверхчеловека, сильная женщина против слабого мужчины. Она с горечью смотрела на русскую интеллигенцию, не понимая, стоит ли ей оправдываться или обвинять себя во всех смертных грехах. Она бесконечно повторяла разговор о своем всемирном значении и своей исторической ответственности, пока он не иссяк сам собой, потому что все, что она могла сделать, она уже сделала.
И вся эта дискуссия, вся эта интеллектуальная экзистенция приводит лишь к одному: писатель никому ничего не должен. Литература никому ничего не должна. Единственное, что может сделать литература, если она родилась в условиях больной системы, это начать воспевать эту систему. Или хотя бы изображать ее неизбежной, естественной, исторически обусловленной – единственно возможным способом существования. Чем больше давления, тем настойчивее литература пытается выдать эту извращенную, бесконечно самовоспроизводящуюся среду за оазис чистого духа и жертвенности. Говорить в таком случае о ее величии, уникальности или культурной миссии бессмысленно. Уникальность ее только в одном – у общества нет ничего, кроме нее. И это, если вдуматься, довольно печально.
Вопрос, конечно, важный, но он из той категории, которые настолько заезжены, что их обсуждение приносит больше вреда, чем пользы. Русская литература, например, умудрилась довести себя этим вопросом до полной изнеможенности. Она десятилетиями спорила о том, виновата ли она во всем, что произошло в стране, и если виновата, то в какой мере. Она бродила по глухому лесу трех вечных тем – истина против Родины, лишний человек против сверхчеловека, сильная женщина против слабого мужчины. Она с горечью смотрела на русскую интеллигенцию, не понимая, стоит ли ей оправдываться или обвинять себя во всех смертных грехах. Она бесконечно повторяла разговор о своем всемирном значении и своей исторической ответственности, пока он не иссяк сам собой, потому что все, что она могла сделать, она уже сделала.
И вся эта дискуссия, вся эта интеллектуальная экзистенция приводит лишь к одному: писатель никому ничего не должен. Литература никому ничего не должна. Единственное, что может сделать литература, если она родилась в условиях больной системы, это начать воспевать эту систему. Или хотя бы изображать ее неизбежной, естественной, исторически обусловленной – единственно возможным способом существования. Чем больше давления, тем настойчивее литература пытается выдать эту извращенную, бесконечно самовоспроизводящуюся среду за оазис чистого духа и жертвенности. Говорить в таком случае о ее величии, уникальности или культурной миссии бессмысленно. Уникальность ее только в одном – у общества нет ничего, кроме нее. И это, если вдуматься, довольно печально.
Вам понравилась эта статья?
Смотрите также:

